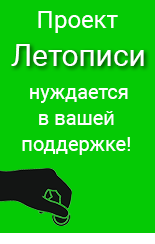2этап/Проект Мир поэзии Бродского
Предлагаем Вам прочитать анализ стихотворения "На смерть Жукова" и попытаться проанализировать стихотворение "Я входил вместо дикого зверя в клетку..."
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность. (24 мая 1980)
!!!ВНИМАНИЕ!!!Информация не должна повторяться, т.е. если одна команда уже внесла информацию, вторая может ее только дополнить или внести другую информацию.
Ответ команды <Исследователи>
Стихотворение Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку» считается одним из программных, ключевых произведений автора. Для его понимания необходимо знать основные элементы биографии автора.
Иосиф Александрович Бродский родился в 1940 году в Ленинграде. Стихи начал писать с 16 лет. В 1964 году против поэта было возбуждено уголовное дело по обвинению в тунеядстве. Его арестовали, судили и приговорили к пятилетней ссылке в Архангельскую область. В 1965 году Бродскому все-таки разрешают вернуться в Ленинград, но в 1972 году ему приходится эмигрировать. С этого времени он жил в США-В 1987 году Иосиф Бродский стал Нобелевским лауреатом по литературе.
Стихотворение Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» было написано к сорокалетию автора 24 мая 1980 года. Основная идея произведения — трагичность судьбы поэта. Бродский метафорически преображает воспоминания о своей собственной жизни, переплетая ее с судьбами других художников слова.
Каждая строфа этого стихотворения является некоей моделью бытия. Первая отражает всевозможные формы отношения человека и общества: от изгоя и преступника («входил вместо дикого зверя в клетку», «выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке»), до свободы («жил у моря») и принадлежности к социальной элите («обедал черт знает с кем во фраке»). В первой же строчке заявлен мотив несвободы: «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» Ассоциация очевидна: дикому зверю, как и творцу, нужна свобода — но всегда находятся силы, которые хотят эту свободу отнять. Слово клетка получает в тексте расширительное значение: тюрьма, камера, узилище, несвобода вообще. Вторая строфа вбирает в себя судьбы многих и многих представителей отечественной интеллигенции, которые стали жертвами сталинских репрессий: вместо именичу у них появились «кликухи», вместо жизни—«срок».
Я с гордостью прочитал и проанализировал данное стихотворение, так как это стихотворение является ключевым произведением автора. Мне очень понравилось!!!
Ответ команды <Променад>
Написанное поэтом в день сорокалетия, стихотворение поражает автобиографичностью: оно буквально соткано из фактов жизни. А поскольку их отличительные черты: трудности, непонимание, неприятие на родине- стихотворение звучит по- особому. Оно написано редкой в русской поэзии «ослабленной» силлабикой, хотя по первым строкам кажется, что перед нами анапест. Всё стихотворение- одна строфа. Женская рифма и перекрёстный способ рифмовки смягчают звучание достаточно резких и грубоватых строк. Поражает и звукопись: яркие аллитерации воссоздают музыку прекрасных джазовых импровизаций, которые появились в творчестве И.Бродского в ранний период под влиянием творчества Б.Слуцкого. Вот рычащие, клокочущие [р] ,[ж] уступают место плавным, наполненным звуком [л], [н], их вытесняют свистящие, как ветер в степи, как надорванные голосовые связки, [с], [з], а потом всё глохнет в тишине [ш]. Финал стихотворения объединяет все перечисленные темы. Смешение языковых стилей создаёт уникальность, неповторимость жизненного пути поэта. С одной стороны, книжная лексика («вскормила», «озирал»), подчёркивающая высокую миссию поэта, с другой- вульгаризмы («жрал», «кликуха»), просторечное выражение («чёрт знает с кем»), прочно связанные с пребыванием на принудительных работах в Архангельской области. Уже сравнение с диким зверем в клетке подчёркивает мотив борьбы и одиночества. Ряд однородных сказуемых («слонялся...», «надевал...», «сеял...», «покрывал...» и т. д.) создаёт ощущение цепи тяжёлых испытаний, которые завершаются парадоксальным оксюмороном- «не пил только сухую воду». Итогом жизненного пути, когда исполнилось сорок и жизнь позади, стал почти абсурдный вывод - «Только с горем я чувствую солидарность». Но вот последние две строчки настолько светлы, настолько пронизаны долгом настоящего поэта, что вспоминаются другие строки, которые написал 26-летний Лермонтов: "За всё, за всё тебя благодарю я: За тайные мучения страстей, За горечь слез, отраву поцелуя, За месть врагов и клевету друзей, За жар души, растраченный в пустыне, За все, чем я обманут в жизни был..." Сорок лет- своеобразный итог, переоценка ценностей. Быт ( а вернее, его неустроенность) не сломили бытие, а обратились в благодарность. Любовь к Родине, какой бы она ни была, каким бы испытаниям ни подвергала лиричексого героя,- вот пафос звучания стихотворения.Этот патриотизм и привлек нас.
Ответ команды <Stella>
«Я входил вместо дикого зверя в клетку…» Это стихотворение Иосиф Бродский написал в день его сорокалетия. Перед нами поэтическая автобиография – мужественная. С поразительным искусством Бродский обращает реальнейшие эпизоды, подробности и детали собственной жизни в полные высокого обобщающего смысла символы. Образная структура текста определяется соединением высокой и сниженной лексики; эпически-повествовательной интонацией, необычной ритмикой (перед нами - редкая «ослабленная» силлабика); изысканностью фонетического оформления. Проанализировав цвет стихотворения по таблице Журавлева, надо отметить, что произведение многоцветно, хотя преобладают темно-синий и голубой. Темно-синий – это искренность и верность. Голубой – цвет чистый и спокойный, цвет созерцания и размышлений.
Что представляет из себя это произведение? Может, крик души настрадавшегося в жизни человека? Нет, не похоже. Или жалоба на тяжкую судьбу? Вряд ли. По-моему, ключевой фразой является последняя: «Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Быть может, автор благодарит судьбу за такое стечение обстоятельств, как ни банально это звучит. Бродский понял, что «пинки» жизни заставили сделать его несколько лишних шагов. Тем более прожить такую жизнь и не сломаться – это признак внутренней силы. Еще одно предложение привлекло мое внимание: «Я слонялся в степях … и не пил только сухую воду». Мне сразу вспомнилась бескрайняя степь и труд крестьянина, который сам по себе мышиная возня, по сравнению со степью, которая была, есть и будет еще тысячи лет. «Не пил только сухую воду» - это оксюморон, значит он испытал все в жизни, ничем не брезгуя. Но он благодарит судьбу за шанс начать все сначала. Все, что было – стер, отстроив заново. «Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни? Что оказалось длинной» - в этих строках не может не чувствоваться горечь о былом, точнее, что ничего не осталось от былого. Не знаю, что чувствует автор по отношении к России, которая его «вскормила» и дала «хлеб изгнанья»; Бродский его «жрал, не оставляя корок». Почему произведение называется так, по первой строке? Трудно сказать. Наверно, в память о годах, проведенных в бараке. Или просто автор хотел сделать ошеломляющее название.
Ответ команды "Стрингеры"
Анализ. Восприятие. Истолкование. Оценка.
В документальном фильме «Бродский в Венеции» поэт читает это стихотворение сам. Удивительный, завораживающий, долетающий как будто из другой Галактики голос. Акцентируется размер – так читают только поэты. «Волшебные стихи», по определению А.Ахматовой.
О себе и не о себе… О судьбе русского поэта! Сначала возникают ассоциации со строками В.Соколова «Я устал от ХХ века, от его окровавленных рек»… И у Бродского : жизнь горькая, трудная… Но другой не надо - только так рождаются поэты: пройдя через испытания на прочность.
Горек хлеб изгнания. Но нет сетований, обвинений. Вина возлагается на самого лирического героя: «с высоты ледника озирал полмира», «бросил страну, что меня вскормила», «жрал хлеб изгнания»… Есть осознание своей вины. Есть мудрость 40-летнего человека: «с горем чувствую солидарность». Концовка неожиданная, как у М.Цветаевой в «Тоске по родине»(«…особенно рябина…» - и обрыв), пронзительная, как у Блока: «благословляю все, что было. Я лучшей доли не искал».
По жанру – исповедальное раздумье, всего 20 строк, вместивших космос души человеческой («итожу то, что прожил»…). Речь лаконична. Нет длинных сложных синтаксических конструкций («Осенний крик ястреба» - 120 строк).
Композиция своеобразна: перевес первой части, где главная часть речи – глагол (повествование!) и короткий вывод в одну строку в конце последнего четверостишия (часть2): за все благодарим мы свою судьбу, жизнь – дар бесценный, мир души человеческой не имеет границ. Пусть мир раздирают противоречия, взгляд независимого человека всегда увидит главное.
Просто и мудро написано стихотворение. Нет привычных для Бродского сложных метафор, аллюзий, реминисценций. Используется звукопись, прием аллитерации (31 раз повторяется строгий, мужественный звук «р»), рифмы тоже обычные, ассонансные почти не употребляются. Естественность, лаконичность создают доверительный тон. Так просто и так мудро рассказал нам поэт о мире, в котором мы живем. О любви к этому миру, где самые сильные, пройдя испытание изгнанием, остаются поэтами.
Когда мы впервые прочли это стихотворение, мы сразу поняли, что так написать может только очень большой Поэт.
Ответ команды <МАЯК>
Анализ стихотворения И.Бродского
«Я входил вместо дикого зверя в клетку»
О поэзии Иосифа Бродского написано много. Пожалуй, даже слишком много, учитывая тот факт, что смысл и проблематика его эмиграционных стихов до сих пор остаются загадкой для исследователей. Работы западных литературоведов полны оптимизма и несокрушимой веры в светлый миф об американской мечте, счастливо воплотившейся в судьбе лауреата Нобелевской премии. Однако в России подобные оценки могут найти отклик разве только у неискушенного читателя, потому что даже при поверхностном сопоставлении творческого наследия поэта с интерпретациями зарубежных коллег
становится очевидной их полная эмоциональная несовместимость.
К своему сорокалетию Бродский пишет стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку», в котором подводит итоги жизни и говорит о своем отношении к настоящему и будущему. Надо сказать, что само стихотворение, которое поэт, несомненно, рассматривал как этапное в своем творчестве, вызывало крайне противоречивые оценки критиков. Александр Солженицын назвал его «преувеличенно грозным», объясняя свое негативное восприятие первой строки «детским» «по гулаговским масштабам сроком», который отсидел Бродский в тюрьме и ссылке: мол, если бы не 17 месяцев, а больше, — тогда еще можно было бы драматизировать. В. Полухина сравнивает стихотворение Бродского с “Памятниками” Горация, Державина, Пушкина на том основании, что в нем подводятся итоги и излагаются взгляды на жизнь. Нельзя не отметить, что отношение самого Бродского к подобным представлениям о своем творчестве всегда было резко отрицательным. Сравните описание собственного «монумента» в «Элегии» 1986 года или строчку из «Рим¬ских элегий»: «Я не воздвиг уходящей к тучам / каменной вещи для их острастки».
С другой стороны, если бы стихотворение Бродского нуждалось в заглавии, логичнее было бы, исходя из содержания, отнести его к разряду руин, а не памятников, — так много в нем горечи и так мало удовлетворения, самолюбования и надежды на будущее. По свидетельству Валентины Полухиной, «это одно из самых любимых поэтом стихотворений ‹…› Чаще любого другого он читал его на фестивалях и поэтических выступлениях».
Мысль о монументальности может возникнуть под влиянием неторопливо-размеренного звучания первых двенадцати строк стихотворения, в которых поэт вспоминает наиболее важные события в своей жизни — события, надо сказать, далекие от триумфа: тюремное заключение («Я входил вместо дикого зверя в клетку»), ссылку («выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке»), эмиграцию («играл в рулетку, / обедал черт знает с кем во фраке. / С высоты ледника я озирал полмира») и свое отношение к ней («Бросил страну, что меня вскормила. /Из забывших меня можно составить город», «покрывал черной толью гумна»), попытки забыться («и не пил только сухую воду»). Из всего того, о чем сообщает поэт, к разряду нейтральных можно отнести лишь несколько фактов: «жил у моря», «надевал на себя, что сызнова входит в моду» и «сеял рожь». Принимая во внимание противоречие между формой стихотворения и его содержанием, можно предположить, что за торжественным строем первой части скрывается лишь одно — отсутствие сожаления, что само по себе указывает на наступление нового этапа в жизни автора. Максимализм свойствен юности, с возрастом человек принимает жизнь таковой, какова она есть, и не предъявляет к ней повышенных требований, чтобы не было причин для разочарования. Вряд ли есть основания подвергать сомнениям точку зрения автора, тем более что в эмиграции Бродскому не раз приходилось давать объяснения по поводу отъезда; например, в интервью 1981 года Белле Езерской он комментирует это событие следующим образом: Б. Е.: Говорят, вы очень не хотели уезжать? И. Б.: Я не очень хотел уезжать. Дело в том, что у меня долгое время сохранялась иллюзия, что, несмотря на все, я все же представляю собой некую ценность… для государства, что ли. Что ИМ выгоднее будет меня оставить, сохранить, нежели выгнать. Глупо, конечно. Я себе дурил голову этими иллюзиями. Пока они у меня были, я не собирался уезжать. Но 10 мая 1972 года меня вызвали в ОВиР и сказали, что им известно, что у меня есть израильский вызов. И что мне лучше уехать, иначе у меня начнутся неприятные времена. Вот так и сказали. Через три дня, когда я зашел за документами, все было готово. Я подумал, что, если я не уеду теперь, все, что мне останется, это тюрьма, психушка, ссылка. Но я уже через это прошел, все это уже не дало бы мне ничего нового в смысле опыта. И я уехал. Ответ Бродского на вопрос журналиста абсолютно нейтрален — в нем нет ни раздражения, ни обиды, ни обвинений: уехал, потому что на тот момент посчитал это целесообразным. Конечно, выбор был сделан им под давлением угроз, но угроз, согласно комментариям Бродского, довольно неопределенных. Во второй части стихотворения от описания биографических событий поэт переходит к рассказу о творчестве:
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки, помимо воя; перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Обратимся к первой строке приведенного выше отрывка. Сны неподвластны воле человека, они развиваются по неведомым ему сценариям, следовательно, впустить что-либо или запретить что-либо в сновидениях невозможно, хотя попытки проникнуть в область бессознательного предпринимаются. Вспоминая фразу А. Ахматовой: «Италия — это сон, который возвращается до конца ваших дней”, Бродский писал: “…в течение всех семнадцати лет я пытался обеспечить повторяемость этого сна, обращаясь с моим сверх-я не менее жестоко, чем с моим бессознательным. Грубо говоря, скорее я возвращался к этому сну, чем наоборот” (“Fondamenta degli incurabili», 1989). При воспроизведении сна на сознательном уровне он теряет свою самостоятельность, становится частью творчества. К тому же нельзя не учитывать то обстоятельство, что впускать в свои сновидения неприятные воспоминания — дуло пистолета и глазок тюремной камеры («вороненый зрачок конвоя») — противоречит природе человеческого сознания.
Если, следуя Бродскому, рассматривать «сон» как метафорический образ, соотносящийся с поэтическим творчеством, «вороненый зрачок конвоя»может соответствовать самоцензуре. Однако причины ее в этом случае нельзя объяснить бессознательным стремлением поэта к языковому совершенству — негативное значение метафоры указывает на принудительный характер контроля со стороны автора. С данной интерпретацией согласуется и следующая за рассматриваемой строкой фраза: «Позволял своим связкам все звуки, помимо воя», то есть «не позволял себе выть». Глагол с отрицанием «не позволял» указывает на сознательное подавление субъектом возникающего желания, а предыдущая строка «жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок» (то есть испытал все тяготы изгнания до конца), с одной стороны, объясняет, почему желание выть возникало, а с другой — указывает на его интенсивность. В этих условиях поэту, вероятно, приходилось строго контролировать проявление своих чувств, чтобы «вой» не был услышан. Вспоминая строчки Маяковского о том, как он «себя смирял, становясь на горло собственной песне», невольно приходишь к выводу, что у поэта революции и поэта-эмигранта не так уж мало общего. С учетом приведенного выше разбора следующая фраза «перешел на шепот» может объясняться не столько отсутствием физических сил, сколько мерами предосторожности.
В последней, третьей части стихотворения поэт подводит итоги жизни:
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Надо отметить, что окончание стихотворения вызывает больше всего вопросов. Валентина Полухина трактует его весьма прямолинейно: «Он не проклинает прошлое, не идеализирует его, а благодарит. Кого? Судьбу? Всевышнего? Жизнь? Или всех вместе? Благодарить ему в свой юбилейный год было за что. В конце 1978 года поэт перенес первую операцию на открытом сердце («бывал распорот») и весь 1979 год медленно выздоравливал (мы не найдем ни одного стихотворения, помеченного этим годом). В 1980 году вышел третий сборник его стихов в английском переводе, удостоенный самых лестных рецензий, и в этом же году его впервые выдвинули на Нобелевскую премию, о чем он узнал за несколько недель до своего дня рождения». В приведенном выше списке, предписывающем, за что поэту следует благодарить судьбу, вызывает недоумение отсутствие одного немаловажного события: в 1980 году Бродский стал гражданином США. Конечно, церемония получения гражданства могла состояться и после его дня рождения, но к тому моменту поэт должен был знать, что это произойдет, и, следовательно, у него были все основания для того, чтобы начать испытывать благодарность. Трудно поверить в то, что можно было просто «забыть» об этом факте. Обратимся к тексту. Сравнивая две последние строки стихотворения, нельзя не отметить их стилистическое несоответствие: сниженно-разговорный стиль при описании собственной смерти («забить рот глиной») подразумевает насилие по отношению к субъекту и не может сопровождаться выражением им чувства «благодарности». Диссонанс между первой и второй частью сложноподчиненного предложения настолько ярко обозначен, что за ним прочитывается даже не ирония, а сарказм со стороны поэта по отношению к своим действиям. Нельзя не отметить связь приведенного выше отрывка с известными строчками из стихотворения Мандельштама «1 января 1924»: «Еще немного — оборвут / Простую песенку о глиняных обид / И губы оловом зальют» «Зальют» — «забьют»: губы, «залитые оловом», или рот, «забитый глиной» (сравните: «глиняные обиды»), не ассоциируются с естественной смертью, а подразумевают воздействие со стороны государства. У Мандельштама использован более страшный, чем в стихотворении Бродского, образ, но надо сказать, что и ситуацию в России после революции нельзя сравнить с жизнью в Америке в конце XX века. И. Б.: «Сегодня в Америке все большая тенденция от индивидуализма к коллективизму, вернее, к групповщине. Меня беспокоит агрессивность групп: ассоциация негров, ассоциация белых, партии, общины — весь этот поиск общего знаменателя. Этот массовый феномен внедряется и в культуру.
Значительная часть моей жизни проходит в университетах, и они сейчас бурлят от всякого рода движений и групп, особенно среди преподавателей, которым сам Бог велел стоять от этого в стороне. Они становятся заложниками феномена политической корректности. Вы не должны говорить определенных вещей, вы должны следить, чтобы не обидеть ни одну из групп. И однажды утром вы просыпаетесь, понимая, что вообще боитесь говорить. Не скажу, чтобы я лично страдал от этого — они ко мне относятся как к чудаку, поэтому каждый раз к моим высказываниям проявляется снисхождение».
Слово “чудак”, которое использует Бродский, описывая отношение к себе американских коллег, тоже вызывает определенные ассоциации: как к поэту-чудаку, человеку не от мира сего относились и к Мандельштаму. Присутствующие в стихотворениях Бродского образы одиночки, завоевателя, Миклухо-Маклая, обломка неведомой цивилизации, свидетельствуют о том, что поэт чувствовал себя неуютно среди окружающей его идеологической мишуры. А чудак Бродский искал, переживал, мучился. И стихи переводил, чтобы дать возможность американскому читателю познакомиться с русской поэзией в хорошем качестве; и пропагандировал его же поэзию, о которой он (читатель) не имел или не хотел иметь представление; и преподавал, хотя особого удовольствия в этом, как видно, не было; и речи писал на англий¬ском языке для американской молодежи, и эссе; и выступал с напутственным словом перед выпускниками университетов. Испытывал ли поэт благодарность к стране, которая дала ему возможность жить и работать? Конечно. В интервью он не раз говорил об этом: «Те пятнадцать лет, что я провел в США, были для меня необыкновенными, потому что все оставили меня в покое. Я вел такую жизнь, какую, полагаю, и должен вести поэт, — не уступая публичным соблазнам, живя в уединении. Может быть, изгнание и есть естественное условие существования поэта, в отличие от романиста, который должен находиться внутри структур описываемого им общества». Итоги, к которым приходит поэт, весьма неутешительны: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. / Только с горем я чувствую солидарность». Жизнь представляется человеку «длинной» только в том случае, если ничто его в ней больше не радует. В авторском переводе стихотворения на английский язык поэт выражает свои чувства гораздо более жестко: «What should I say about life? That it’s long and abhors transparence. / Broken eggs make me grieve; the omelette, though, makes me vomit» («Что сказать мне о жизни? Что длинна и не выносит ясности. Разбитые яйца вселяют грусть, а омлет вызывает рвоту»). Согласитесь, содержание стихотворения весьма далеко от благостной монументальности.
Ответ команды <Лучики>
Я входил вместо дикого зверя в клетку, Выживал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, Жил у моря, играл в рулетку, Обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озарил полмира, Трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я склонялся в степях, помнящих вопли гунна, Надевал на себя что сызнова входит в моду, Сеял рожь, покрывал черной толью гумна И не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, Жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки, помимо воя; Перешел на шепот. Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет лишь благодарность. 24 мая 1980
Анализ стихотворения Иосифа Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку».
О поэзии Иосифа Бродского написано много. Пожалуй, даже слишком много, учитывая тот факт, что смысл и проблематика его эмиграционных стихов до сих пор остаются загадкой для исследователей. Работы западных литературоведов полны оптимизма и несокрушимой веры в светлый миф об американской мечте, счастливо воплотившийся в судьбе лауреата Нобелевской премии. Однако в России подобные оценки могут найти отклик разве только у неискушенного читателя, потому что даже при поверхностном сопоставлении творческого наследия поэта с интерпретациями зарубежных коллег становится очевидной их полная эмоциональная несовместимость. Можно было бы, конечно, не обращать внимания на «неточности», не в первый и не в последний раз такое случается в нашей жизни, но в отношении Бродского подобная позиция представляется недопустимой, потому что теория благополучно существования поэта в эмиграции не только не способствует разрешению многочисленных вопросов, возникающих у читателей относительно его стихотворений, но часто становится причиной трагического непонимания, а порой и полного отрицания его творчества. «Я входил вместо дикого зверя в клетку» открывает изданный на английском языке сборник стихов Бродского «То Urania». К своему сорокалетию Бродский пишет стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку», в котором подводит итоги жизни к настоящему и будущему. По свидетельству Валентины Полухиной, «это одно из самых любимых поэтом стихотворений. Чаще любого другого он считал его на фестивалях и поэтических выступлениях».
Я входил вместо дикого зверя в клетку. Выживал свой срок и кликуху гвоздем
в бараке,
жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озарил полмира, Трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, Надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной только гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок
конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки,
помимо воя;
Перешел на шепот. Теперь мне сорок. Что сказать мне жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет лишь
Благодарность.
24 мая 1980
Мысль о монументальности может возникать под влиянием неторопливо размеренного звучания первых двенадцати строк стихотворения, в которых поэт вспоминает наиболее важные события о своей жизни – события, надо сказать, далекие от триумфа: тюремное заключение. («Я входил вместо дикого зверя в клетку»), ссылку («выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке»), эмиграцию(« играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира») и свое отношение к ней («Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город», «покрывал черной только гумна»), попытки забыться («и не пил только сухую воду»). Из всего того, о чем сообщает поэт, к разряду нейтральных можно отнести лишь несколько фактов: «жил у моря», «надевал на себя, что сызнова входит в моду» и «сеял рожь». Принимая во внимание противоречия между формой стихотворения и его содержанием, можно предположить, что за торжественным строем первой части скрывается лишь одно – отсутствие сожаления, что само по себе указывает на наступление нового этапа в жизни автора. Максимализм свойствен юности, с возрастом человек принимает жизнь такой, какова она есть, и не предъявляет к ней повышенных требований, чтобы не было причин для разочарования. Все, что произошло в жизни, поэт воспринимает как само собой разумеющееся. Этот факт отмечен и в статье Валентины Полухиной; «С самой первой строчки стихотворения судьба рассматривается Бродским как нечто заслуженное». Однако с представлениями поэта о своей судьбе автор статьи согласиться не может, отмечая, что фраза Бродского «Бросил страну, что меня вскормила» не соответствует действительности, «так как на самом деле именно страна заставила его эмигрировать». Во второй части стихотворения от описания биографических событий поэт переходит к рассказу о творчестве: Я впустил в свои сны вороненый
Зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки,
Помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок. Обратимся к первой строке приведенного выше отрывка. Сны неподвластны воле человека, они развиваются по неведомым ему сценариям, следовательно, впустить что-либо в сновидениях невозможно, хотя попытки проникнуть в область бессознательного предпринимаются. Если, следуя Бродскому, рассматривать «сон» как метафорический образ, относящийся с поэтическим творчеством, «вороненый зрачок конвоя» может соответствовать самоцензуре. Однако причины ее в этом случае нельзя объяснить бессознательным стремлением поэта к языковому совершенству – негативное значение метафоры указывает на принудительный характер контроля со стороны автора. С данной интерпретацией согласуется и следующая за рассматриваемой строкой фраза: «Позволял своим связкам все звуки, помимо воя», то есть «не позволял себе выть». Глагол с отрицанием «не позволял» указывает на сознательное подавление возникающего желания, а предыдущая строка «жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок» (то есть испытал все тяготы изгнания до конца), с одной стороны, объясняет, почему желание выть возникало, с другой – указывает на его интенсивность. В этих условиях поэту, вероятно, приходилось строго контролировать проявление своих чувств, чтобы «вой» не был услышан.Вспоминая строчки Маяковского о том, как он «себя смирял, становясь на горло собственной песне», невольно приходишь к выводу, что у поэта революции и поэта-эмигранта не так уж мало общего. С учетом приведенного выше разбора следующая фраза «перешел на шепот» может объясниться не столько отсутствием физических сил, сколько мерами предосторожности. В последней, третьей части стихотворения поэт подводит итоги жизни: Что сказать мне о жизни?
Что оказалось длинной.
Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь
благодарность.
Надо отметить, что окончание стихотворения вызывает больше вопросов. Валентина Полухина трактует его весьма прямолинейно: «Он не проклинает прошлое, не идеализирует его, а благодарит. Кого? Судьба? Всевышнего? Жизнь? Или всех вместе? Благодарить ему в свой юбилейный год было за что. В конце 1979 года поэт перенес первую операцию на открытом сердце(,,бывал распорот”) и весь 1979 год медленно выздоравливал ( мы не найдем ни одного стихотворения, помеченного этим годом).
Ответ команды <Кристалл>
Стихотворение Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку» считается одним из программных, ключевых произведений автора. Для его понимания необходимо знать основные элементы биографии автора. Иосиф Александрович Бродский родился в 1940 году в Ленинграде. Стихи начал писать с 16 лет. В 1964 году против поэта было возбуждено уголовное дело по обвинению в тунеядстве. Его арестовали, судили и приговорили к пятилетней ссылке в Архангельскую область. В 1965 году Бродскому все-таки разрешают вернуться в Ленинград, но в 1972 году ему приходится эмигрировать. С этого времени он жил в США. В 1987 году Иосиф Бродский стал Нобелевским лауреатом по литературе. Стихотворение Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» было написано к сорокалетию автора 24 мая 1980 года. Основная идея произведения — трагичность судьбы поэта. Бродский метафорически преображает воспоминания о своей собственной жизни, переплетая ее с судьбами других художников слова. “Я входил вместо дикого зверя в клетку” открывает изданный на английском языке сборник стихов Бродского “То Urania” (Farrar, Straus and Giroux, NY, 1980), а также третьи тома его “Collected Works” и “Сочинений Иосифа Бродского” (СПб.: Пушкинский фонд, 1994). В сборнике “То Urania” стихотворение дается в переводе Бродского. В английском варианте статьи Валентина Полухина приводит свой собственный перевод стихотворения, выполненный совместно с Крисом Джонсом, отмечая, что перевод Бродского вызвал нарекания со стороны некоторых английских поэтов. Надо сказать, что не только перевод, но и само стихотворение, которое поэт, несомненно, рассматривал как этапное в своем творчестве, вызывало крайне противоречивые оценки критиков. Александр Солженицын назвал его “преувеличенно грозным”, объясняя свое негативное восприятие первой строки “детским” “по гулаговским масштабам сроком”, который отсидел Бродский в тюрьме и ссылке: мол, если бы не 17 месяцев, а больше, — тогда еще можно было бы драматизировать. В.Полухина сравнивает стихотворение Бродского с “Памятниками” Горация, Державина, Пушкина на том основании, что в нем подводятся итоги и излагаются взгляды на жизнь. Нельзя не отметить, что отношение самого Бродского к подобным представлениям о своем творчестве всегда было резко отрицательным. Мысль о монументальности может возникнуть под влиянием неторопливо-размеренного звучания первых двенадцати строк стихотворения, в которых поэт вспоминает наиболее важные события в своей жизни — события, надо сказать, далекие от триумфа: тюремное заключение (“Я входил вместо дикого зверя в клетку”), ссылку (“выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке”), эмиграцию (“играл в рулетку, / обедал черт знает с кем во фраке. / С высоты ледника я озирал полмира”) и свое отношение к ней (“Бросил страну, что меня вскормила. /Из забывших меня можно составить город”, “покрывал черной толью гумна”), попытки забыться (“и не пил только сухую воду”). Из всего того, о чем сообщает поэт, к разряду нейтральных можно отнести лишь несколько фактов: “жил у моря”, “надевал на себя, что сызнова входит в моду” и “сеял рожь”. Принимая во внимание противоречие между формой стихотворения и его содержанием, можно предположить, что за торжественным строем первой части скрывается лишь одно — отсутствие сожаления, что само по себе указывает на наступление нового этапа в жизни автора. Максимализм свойствен юности, с возрастом человек принимает жизнь таковой, какова она есть, и не предъявляет к ней повышенных требований, чтобы не было причин для разочарования. Все, что произошло в жизни, поэт воспринимает как само собой разумеющееся. Этот факт отмечен и в статье Валентины Полухиной: “С самой первой строчки стихотворения судьба рассматривается (Бродским) как нечто заслуженное”. Однако с представлениями поэта о своей судьбе автор статьи согласиться не может, отмечая, что фраза Бродского “Бросил страну, что меня вскормила” не соответствует действительности, “так как на самом деле именно страна заставила его эмигрировать”.
Вряд ли есть основания подвергать сомнениям точку зрения автора, тем более что в эмиграции Бродскому не раз приходилось давать объяснения по поводу отъезда; например, в интервью 1981 года Белле Езерской он комментирует это событие следующим образом: Б. Е.: Говорят, вы очень не хотели уезжать? И. Б.: Я не очень хотел уезжать. Дело в том, что у меня долгое время сохранялась иллюзия, что, несмотря на все, я все же представляю собой некую ценность… для государства, что ли. Что ИМ выгоднее будет меня оставить, сохранить, нежели выгнать. Глупо, конечно. Я себе дурил голову этими иллюзиями. Пока они у меня были, я не собирался уезжать. Но 10 мая 1972 года меня вызвали в ОВиР и сказали, что им известно, что у меня есть израильский вызов. И что мне лучше уехать, иначе у меня начнутся неприятные времена. Вот так и сказали. Через три дня, когда я зашел за документами, все было готово. Я подумал, что, если я не уеду теперь, все, что мне останется, это тюрьма, психушка, ссылка. Но я уже через это прошел, все это уже не дало бы мне ничего нового в смысле опыта. И я уехал. Ответ Бродского на вопрос журналиста абсолютно нейтрален — в нем нет ни раздражения, ни обиды, ни обвинений: уехал, потому что на тот момент посчитал это целесообразным. Конечно, выбор был сделан им под давлением угроз, но угроз, согласно комментариям Бродского, довольно неопределенных. Во второй части стихотворения от описания биографических событий поэт переходит к рассказу о творчестве: Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки, помимо воя; перешел на шепот. Теперь мне сорок. Обратимся к первой строке приведенного выше отрывка. Сны неподвластны воле человека, они развиваются по неведомым ему сценариям, следовательно, впустить что-либо или запретить что-либо в сновидениях невозможно, хотя попытки проникнуть в область бессознательного предпринимаются. Вспоминая фразу А. Ахматовой: “Италия — это сон, который возвращается до конца ваших дней”, Бродский писал: “…в течение всех семнадцати лет я пытался обеспечить повторяемость этого сна, обращаясь с моим сверх-я не менее жестоко, чем с моим бессознательным. Грубо говоря, скорее я возвращался к этому сну, чем наоборот” (“Fondamenta degli incurabili”, 1989). При воспроизведении сна на сознательном уровне он теряет свою самостоятельность, становится частью творчества. К тому же нельзя не учитывать то обстоятельство, что впускать в свои сновидения неприятные воспоминания — дуло пистолета и глазок тюремной камеры (“вороненый зрачок конвоя”) — противоречит природе человеческого сознания. Если, следуя Бродскому, рассматривать “сон” как метафорический образ, соотносящийся с поэтическим творчеством, “вороненый зрачок конвоя” может соответствовать самоцензуре. Однако причины ее в этом случае нельзя объяснить бессознательным стремлением поэта к языковому совершенству — негативное значение метафоры указывает на принудительный характер контроля со стороны автора. С данной интерпретацией согласуется и следующая за рассматриваемой строкой фраза: “Позволял своим связкам все звуки, помимо воя”, то есть “не позволял себе выть”. Глагол с отрицанием “не позволял” указывает на сознательное подавление субъектом возникающего желания, а предыдущая строка “жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок” (то есть испытал все тяготы изгнания до конца), с одной стороны, объясняет, почему желание выть возникало, а с другой — указывает на его интенсивность. В этих условиях поэту, вероятно, приходилось строго контролировать проявление своих чувств, чтобы “вой” не был услышан. Вспоминая строчки Маяковского о том, как он “себя смирял, становясь на горло собственной песне”, невольно приходишь к выводу, что у поэта революции и поэта-эмигранта не так уж мало общего. С учетом приведенного выше разбора следующая фраза “перешел на шепот” может объясняться не столько отсутствием физических сил, сколько мерами предосторожности. В последней, третьей части стихотворения поэт подводит итоги жизни: Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет лишь благодарность. Надо отметить, что окончание стихотворения вызывает больше всего вопросов. Валентина Полухина трактует его весьма прямолинейно: “Он не проклинает прошлое, не идеализирует его, а благодарит. Кого? Судьбу? Всевышнего? Жизнь? Или всех вместе? Благодарить ему в свой юбилейный год было за что. В конце 1978 года поэт перенес первую операцию на открытом сердце („бывал распорот”) и весь 1979 год медленно выздоравливал (мы не найдем ни одного стихотворения, помеченного этим годом). В 1980 году вышел третий сборник его стихов в английском переводе, удостоенный самых лестных рецензий, и в этом же году его впервые выдвинули на Нобелевскую премию, о чем он узнал за несколько недель до своего дня рождения”. В приведенном выше списке, предписывающем, за что поэту следует благодарить судьбу, вызывает недоумение отсутствие одного немаловажного события: в 1980 году Бродский стал гражданином США. Конечно, церемония получения гражданства могла состояться и после его дня рождения, но к тому моменту поэт должен был знать, что это произойдет, и, следовательно, у него были все основания для того, чтобы начать испытывать благодарность. Трудно поверить в то, что можно было просто “забыть” об этом факте. И внвь обратимся к тексту. Стихотворение построено на антитезе. Это один из излюбленных приемов Бродского, который видит мир как столкновение различных, иногда противоположных сил. Так, высота ледника контрастируется с дном жизни, в котором герой тонул, был распорот. Жизнь у моря – идея воды – со скитанием по степям – идея земли, кликуха – с обедом и чьим-то фраком. Контрастен и стиль стихотворения. В нем присутствует сленг и романтические ноты, просторечие и трагические мотивы изгнания. Антитезы позволяют Бродскому в небольшом по объему стихотворении воссоздать образ многоликой человеческой жизни, обобщить реальный биографический опыт автора с историей человеческого бытия вообще. Внешнее простое по форме стихотворение изумительно по образной и смысловой нагрузке. Каждая строка – емкая формула, означающая тот или иной жизненный этап. Часто автор пользуется приемами игры с устойчивыми выражениями, постановкой из в необычный контекст. Так фраза «и не пил только сухую воду» отсылает к языковому оксюморону – вино, т.е. вино чистое, без сахара – авторский оксюморон, означающий, что герою доводилось пить все подряд. В философском отношении эти слова близки пониманию как чаша страданий, которую лирический герой испивает целиком. Неоднозначен и последний образ «пока мне рот не забили глиной». Эту формулу можно понять как указание на возможное насилие общества над личностью. Тогда на читается «пока мне не заткнули рот». Но с другой стороны, глина – это первовещество, из которого бил Богом слеплен Адам. Это образ земли, из которой мы произошли и в которую вернемся после смерти. С этой точки зрения формула означает – «до самой смерти буду благодарить за жизнь». Эти трактовки не противоречат друг другу, но придают стихотворению универсальное звучание. Сравнивая две последние строки стихотворения, нельзя не отметить их стилистическое несоответствие: сниженно-разговорный стиль при описании собственной смерти (“забить рот глиной”) подразумевает насилие по отношению к субъекту и не может сопровождаться выражением им чувства “благодарности”. Диссонанс между первой и второй частью сложноподчиненного предложения настолько ярко обозначен, что за ним прочитывается даже не ирония, а сарказм со стороны поэта по отношению к своим действиям. Нельзя не отметить связь приведенного выше отрывка с известными строчками из стихотворения Мандельштама “1 января 1924”: “Еще немного — оборвут / Простую песенку о глиняных обидах / И губы оловом зальют”. “Зальют” — “забьют”: губы, “залитые оловом”, или рот, “забитый глиной” (сравните: “глиняные обиды”), не ассоциируются с естественной смертью, а подразумевают воздействие со стороны государства. У Мандельштама использован более страшный, чем в стихотворении Бродского, образ, но надо сказать, что и ситуацию в России после революции нельзя сравнить с жизнью в Америке в конце XX века. Однако если Бродский решился на такое сопоставление, у него были на то причины. В интервью журналисту “Московских новостей” поэт говорит об особенностях американской политики в области идеологии и о внедрении ее в сферу образования и культуры: И. Б.: Сегодня в Америке все большая тенденция от индивидуализма к коллективизму, вернее, к групповщине. Меня беспокоит агрессивность групп: ассоциация негров, ассоциация белых, партии, общины — весь этот поиск общего знаменателя. Этот массовый феномен внедряется и в культуру. М. Н: Каким образом? И. Б.: Значительная часть моей жизни проходит в университетах, и они сейчас бурлят от всякого рода движений и групп, особенно среди преподавателей, которым сам Бог велел стоять от этого в стороне. Они становятся заложниками феномена политической корректности. Вы не должны говорить определенных вещей, вы должны следить, чтобы не обидеть ни одну из групп. И однажды утром вы просыпаетесь, понимая, что вообще боитесь говорить. Не скажу, чтобы я лично страдал от этого — они ко мне относятся как к чудаку, поэтому каждый раз к моим высказываниям проявляется снисхождение. Слово “чудак”, которое использует Бродский, описывая отношение к себе американских коллег, тоже вызывает определенные ассоциации: как к поэту-чудаку, человеку не от мира сего относились и к Мандельштаму. Присутствующие в стихотворениях Бродского образы одиночки, завоевателя, Миклухо-Маклая, обломка неведомой цивилизации, свидетельствуют о том, что поэт чувствовал себя неуютно среди окружающей его идеологической мишуры. Нельзя не учитывать двойственность положения, в котором Бродский оказался в эмиграции. В американском обществе, где покой является естественным состоянием, в равной степени желаемым и возможным, опасения поэта по поводу счастливого в нем пребывания просто не могли быть восприняты. Человек, для которого удары судьбы, “изощренные каждодневные испытания” являются понятиями, далекими от реальности, не в состоянии представить, что подобная жизнь может вызывать “ностальгию” у того, кто с ней благополучно расстался. Удовлетворение и благодарность — это не только естественная, но и единственно возможная, с точки зрения окружающих, реакция на перемену в судьбе поэта. С другой стороны, те, кто в свое время выслали поэта из Советского Союза, а не сгноили его в тюрьме или психиатрической лечебнице, тоже, вероятно, рассчитывали на свою долю признательности. Кто знает, возможно, подобными ожиданиями объясняется сарказм, присутствующий в последних строках стихотворения. Заверяя читателей, что только благодарность будет “раздаваться” из его рта до тех пор, пока его не забьют глиной, Бродский употребляет глагол, указывающий на действие, а не на состояние, избегая тем самым разговоров о том, какие чувства он будет при этом “испытывать”. "Я глуховат, я, Боже, слеповат..." - писал о себе Бродский с очень свойственным ему (как никому, пожалуй, в русской поэзии) принижением авторского "я". Однако в течение многих лет его стихи сопровождают глуховатость и слеповатость читателей, слышащих и видящих в нем лишь певца печали. Хотя при непредвзятом чтении Бродского несомненна живущая вместе со скорбью радость бытия, и кажется совершенно ясным, почему в стихотворении к своему сороковому дню рождения коллизии "детского" срока поданы такими яркими красками (кстати, в жизни Бродский никогда не делал упор на своих судебно-ссыльных испытаниях, напротив - переводил разговор, снижал градус). Клетка и барак - часть того огромного разнообразия, которое жизнь щедро обрушивает на человека. Рядом с тюрьмой в первом же четверостишии не случайно стоят море, рулетка, обед во фраке - по видимости противоположные, а по сути равнозначные явления и эпизоды, потому что все это - события судьбы. Такую чересполосицу Бродский сознательно и последовательно нагнетает на протяжении всех двадцати строк. Стихотворение - как кардиограмма: всплеск пафоса сменяется иронической усмешкой. После "воплей гунна" - строка, которую впору сделать рубрикой журнала мод; если "хлеб изгнанья" - то "жрал... не оставляя корок". Рядом с близостью смерти ("тонул", "бывал распорот") - даль жизни ("озирал полмира"). Главная интонация тут может быть выражена оксюмороном - спокойный восторг. Прочувствованное и обдуманное восхищение перед многообразием и непредсказуемостью. Это пушкинская линия русской словесности - то торжествующая, то отступающая, но не пресекавшаяся никогда (таким ощущением восторженного смирения одушевлена строка младшего современника Бродского - Сергея Гандлевского: "Много все-таки жизни досталось мне"). Ни малейшего признака "сплошного тускло-мрачного восприятия", и потому, конечно же, не "диссонансом", а стройным и логичным аккордом звучит финал стихотворения Иосифа Бродского. Прочитанное стихотворение поразило нас глубоким интимным характером, где писатель еще раз доказал свое поэтическое мастерство. Сколько людей – столько судеб, и столько же отношений к этим судьбам. Сорокалетний поэт обнаружил, что жизнь "оказалась длинной" и переполненной - событиями, людьми, мыслями, чувствами. Ему было отмерено еще полтора десятка лет - таких же длинных и полных. Он написал еще много стихов и прозы, не уставая дивиться жизненным кульбитам, на все лады варьируя последнюю строчку стихотворения к своему дню рождения - о благодарности.