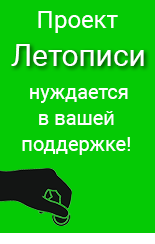Участник:Hich-Picha
| см. Ошибки летописи, Имя статьи, Правила летописи - статья должна быть исправлена! Посмотрите подобные статьи, не забывайте пользоваться шаблонами и помечать статьи соответствующими категориями! |
Перенесите статью из статьи Участник: в другую соответствующую статью, для этого Вам надо будет ее создать. Кажется, статья списана из Интернета. Проверьте ее на оригинальность на сайте Антиплагиат.ру
Образ Петербурга в романе Достоевского Преступление и наказание (Литература : русская):
Петербург в романе Достоевского
«Преступление и наказание»
Под вечер жарчайшего июльского дня, незадолго до захода солнца, уже
бросающего свои косые лучи, из жалкой каморки “под самой кровлей высокого пятиэтажного дома” выходит в тяжкой тоске бывший студент Родион Раскольников. Так начинается роман Ф.М.Достоевского “Преступление и наказание”. Уже в самом начале произведения автор показывает нам гнетущую обстановку, которая будет окружать героев на протяжении всего действия. С этого момента - без передышки, без покоя и отдыха, в исступлении и в задумчивости, в бреду и страхе - мечется по петербургским улицам , останавливается на мостах, заходит в грязные распивочные герой Достоевского Родион Раскольников. И все это время мы не перестаем ощущать присутствие рядом с ним некоего неживого персонажа - огромного города.
Действие романа погружено в эпоху, эпоху, прозванную “железным веком”.
И не случайно Петербург у Достоевского становится ее олицетворением.
Ведь было два Петербурга. Один - город, созданный руками гениальных
архитекторов, Петербург Дворцовой набережной и Дворцовой площади, Петербург дворцовых переворотов и пышных балов, Петербург - символ величия и расцвета послепетровской России, поражающий нас своим великолепием и по сей день. Но был и другой, далекий и неизвестный нам , теперешним людям, Петербург - город, в котором люди живут в “клетушках”, в желтых грязных домах с грязными темными лестницами, проводят время в маленьких душных мастерских или в смердящих кабаках и трактирах, город полусумасшедший, как и большинство знакомых нам героев Достоевского.
Первый Петербург был воспет многими поэтами-лириками. Вот, например,
бессмертные слова Пушкина о нем:
“Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых сводов
Прозрачный сумрак, блеск бездонный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц и светла
Адмиралтейская игла...”
А вот как описан Петербург второй, увиденный Достоевским: “ На улице
жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможность нанять дачу, - все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши”.
Образ жизни людей из высшего света, “высшего” и роскошного Петербурга
характеризуется только одной строкой из пушкинского “Евгения Онегина”: “Полусонный в постелю с бала едет он”. А людям Петербурга “низшего” приходится добывать свой кусок хлеба трудом тяжким, имея одну только радость - горько напиться под вечер.
Если верить, что все на Земле получает энергию из космоса, то тогда
то, как распределил свою долю Петербург между своими обитателями, нельзя сравнить даже с тем, как делится добычей лев с гиенами: Петербург трущоб как-будто выжат весь в пользу Петербурга дворцов. И это та цена, которую должен заплатить город за свое видимое процветание. Ведь не будь этого несправедливого деления, в среднем, мы получили бы посредственный, серый город, который не смог бы вдохновлять собой писателе и поэтов, окутывая их своей магической философией “двуличности”
При всем этом Петербург еще и поразительно замкнут. Живущий в нем
“закрыт от солнца” и от других людей, каждый - своем “шкафу”-каморке. Город болен, и чудовищно больны его обитатели. Сама окружающая обстановка создает у человека чувство безвыходности и озлобления. Она стимулирует возникновение самых невероятных и фантастических теорий: “ Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Я любил лежать и думать”. Город - прекрасный материал для раздумий, подталкивает мысль в определенном направлении, и в конце концов заражает человека идеями, больше похожими на бред. Чертой, по которой мы узнаем зараженного “болезнь большого города”, является навязчивый желтый цвет. Желтые обои и мебель в комнате у старухи, желтое от постоянного пьянства лицо Мармеладова, желтая,”похожая на шкаф или на сундук”, каморка Раскольникова, желтоватые обои в комнате у Сони, “мебель из желтого отполированного дерева” в кабинете Порфирия Петровича. Эти детали подчеркивают безысходную атмосферу существования главных действующих лиц романа, являются предвестниками недобрых событий. Город, как зловещий демон, ищущий грешные души, опутал все вокруг своими черными сетями, в которые попадают его обитатели. Он как бы отыгрывается на своих жертвах, высасывая из них недостающую ему энергию. И в эти мастерски расставленные ловушки попадают герои романа. Мармеладов испивается в грязной распивочной, Раскольников привязан нуждой к старухе-процентщице, Сонечка попала в “когти” Дарьи Францевны,” женщины злонамеренной и полиции многократно известной”. Раскольников, совершив свое преступление, пошел не только против человеческой морали и своей совести, он невольно нанес рану и городу, обрубив одно из его щупалец. И город отомстил ему. задавив свой громадой, заставив страдать во много раз сильнее. Но события помогают Раскольникову, выхватив его из этого озлобленного мира. Он, дитя огромного мрачного города, попав в Сибирь, оказывается в новом для себя мире, вырванным из той искусственной почвы, на которой взросла его страшная идея. Это - иной, доселе неведомый Раскольникову мир, мир вечно обновляющейся Природы. И здесь, вместе с весною, охватывает его “необъятное ощущение полной и могучей жизни”. Начинается его новый путь, свободный от своеволия и бунта, путь любви и человеколюбия. И тут мы видим, что каторга - место, предназначенное по своей сути для ограничения человеческой свободы , оказывается местом более пригодным для свободного проявления человеческой личности, нежели реальная “воля” большого города.
Итак, Достоевский показал нам , что появление его героя во многом
предопределила эпоха. И именно такой, неразрывно связанный с окружающим его миром герой интересен и автору, и бесконечной череде благодарных ему читателей.
К.И. Тюнькин КРАХ "НЕДОКОНЧЕННОЙ" ИДЕИ ("Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского) Публикуется по книге: Вершины: Книга о выдающихся произведениях русской литературы/ Сост. В.И. Кулешов - М.: Дет.лит., 1983. Электронная версия подготовлена А.В. Волковой - www.slovesnik.ru
(*141) В 1866 году был напечатан роман "Преступление и наказание" - роман о современной России, пережившей эпоху глубочайших социальных сдвигов и нравственных потрясений, эпоху "разложения", роман о современном герое, вместившем в грудь свою все страдания, боли, раны времени.
Когда Достоевский вернулся в Петербург после каторги и ссылки и приступил в 1861 году к изданию своего первого журнала "Время", ему казалось, что для России наступила новая эпоха, открылись радужные перспективы: ведь масса веками бесправных людей, "рабов", русских крестьян, стала свободна. А именно в них видел источник обновления Достоевский, в их нравственном и духовном единении с русской интеллигенцией. Но светлое настроение Достоевского было недолгим. Очень скоро стало ясно, что реформа не принесла желанного перелома. Потерпела крах уверенность в близком коренном обновлении, в неминуемой и недалекой гибели "прошлых времен" (Салтыков-Щедрин). Оптимистические надежды были разбиты, радостные (*142) упования развеяны, "прошлые времена" и не думали и не хотели умирать, напротив, они стали более цепкими, более изворотливыми, приобретя нового союзника - буржуазного хищника-дельца. Наступило время тяжких разочарований, мучительных душевных кризисов.
Достоевский недаром подчеркивал современность своего романа. "Действие современное, в нынешнем году",- писал он в одном из писем в сентябре 1865 года. Путей самого глубокого обновления - социального, духовного, нравственного - искала передовая русская молодежь конца пятидесятых - начала шестидесятых годов. Трагические метания Раскольникова имеют тот же источник. Отсюда начинает движение и его мысль. Однако в судьбе молодых людей вроде Раскольникова годы реакции сыграли роковую роль, толкнули их к особым, бесплодным, трагически несостоятельным формам протеста.
Когда Достоевский писал "Преступление и наказание", жил он в той части Петербурга, где селились мелкие чиновники, ремесленники, торговцы, студенты. Здесь, в холодном осеннем тумане и жаркой летней пыли "серединных петербургских улиц и переулков", лежащих вокруг Сенной площади и Екатерининского канала, возник перед ним образ бедного студента Родиона Раскольникова, здесь и поселил его Достоевский, в Столярном переулке, где в большом доходном доме снимал квартиру сам.
Было два Петербурга. Один - город, созданный гениальными архитекторами, Петербург Дворцовой набережной и Дворцовой площади, поражающий нас и ныне своей вечной красотой и стройностью - "полнощных стран краса и диво", как назвал его Пушкин. Но был и другой - "дома без всякой архитектуры", кишащие "цеховым и ремесленным населением". Мещанские, Садовые, Подьяческие улицы, набережные "Канавы" (Екатерининского канала); харчевни, распивочные, трактиры, лавчонки и лотки мелких торговцев, ночлежки...
Хорошо знал Достоевский Петербург дворцов и парков, "сию великолепную и украшенную многочисленными памятниками столицу" (как сказал на своем оригинальном и выразительном языке герой "Преступления и наказания" Мармеладов), несколько лет прожил он, воспитанник Инженерного училища, в одном из этих дворцов - знаменитом Михайловском замке, рядом с Марсовым полем и Летним садом. Но глух и нем был для Достоевского этот (*143) Петербург, как и для его героя Раскольникова, веял великолепием, холодом и враждебностью. И напротив, в каморках и на улицах другого Петербурга открылось Достоевскому такое неисчерпаемое содержание, такая фантастическая бездонность жизни - ситуации, характеры, драмы,- такая трагическая поэзия, каких еще не знала мировая литература.
Под вечер жарчайшего июльского дня, незадолго до захода солнца, уже бросающего свои косые лучи, из жалкой каморки "под самою кровлей высокого пятиэтажного дома" выходит в тяжкой тоске бывший студент Родион Раскольников. Так начинается роман Достоевского. И с этого момента, не давая себе передышки, без мгновения покоя и отдыха - в исступлении, в глубокой задумчивости, в страстной и безграничной ненависти, в бреду - мечется по петербургским улицам, останавливается на мостах; над темными холодными водами канала, поднимается по вонючим лестницам, заходит в грязные распивочные герой Достоевского. И даже во сне, прерывающем это "вечное движение", продолжается лихорадочная жизнь Раскольникова, принимая уже формы и вовсе фантастические.
"Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения" - во что бы то ни стало, любой ценой. "Ужасный, дикий и фантастический вопрос гонит и ведет героя Достоевского.
Какой же вопрос замучил, истерзал Раскольникова?
Уже в самом начале романа, на первых его страницах, узнаем мы, что Раскольников "покусился" на какое-то дело, которое есть "новый шаг", новое собственное слово, что месяц назад зародилась у него "мечта", к осуществлению которой он теперь близок.
А месяц назад, почти умирая с голоду, он вынужден был заложить у старухи-"процентщицы", ростовщицы, колечко - подарок сестры. Непреодолимую ненависть и отвращение почувствовал он, "задавленный бедностью", к вредной и ничтожной старушонке, сосущей кровь из бедняков, наживающейся на чужом горе, на нищете, на пороке. "Странная (*144) мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок". И вдруг услышанный в трактире разговор студента с офицером о ней же, "глупой, бессмысленной, ничтожной, злой, больной старушонке, никому не нужной и, напротив, всем вредной". Старуха живет "сама не знает для чего", а молодые, свежие силы пропадают даром без всякой поддержки - "и это тысячами, и это всюду!". "За одну жизнь,- продолжает студент,- тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен - да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна". Убей старуху, возьми ее деньги, "обреченные в монастырь",- возьми не себе - для погибающих, умирающих от голода и порока, и будет восстановлена справедливость! Именно эта мысль, названная Достоевским в одном из писем "недоконченной", наклевывалась и в сознании Раскольникова.
А еще раньше, полгода назад, "когда из университета вышел", написал Раскольников, бывший студент-юрист, статью "О преступлении". В этой статье рассматривал Раскольников психологическое состояние преступника в продолжение всего хода преступления. Кроме того, коснулся в своей статье Раскольников намеком и вопроса о таком преступлении, которое разрешается по совести и потому, собственно, не может быть названо преступлением. Дело в том, разъясняет позднее Раскольников мысль своей статьи, "что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово". Первые, склонны к послушанию, смирению, благоговению пред законом. Вторые - во имя нового, лучшего - могут преступить закон и "для своей идеи" ("смотря, впрочем, по идее и по размерам ее",- оговаривается Раскольников), если потребуется, "дать себе разрешение перешагнуть через кровь". Такое нарушение закона - не преступление (разумеется, в глазах необыкновенного человека).
Итак, давно уже зародилась в мозгу Раскольникова мысль, что во имя великой идеи, во имя справедливости, во имя прогресса кровь по совести может быть оправдана, разрешена, даже необходима. Посещение старухи лишь (*145) обостряет, как бы подгоняет его мысль, заставляет ее биться и работать со всем присущим раскольниковскому сознанию напряжением.
Для студента в трактире столь красноречиво развитая им идея убийства с благой целью - только "головная" теория, ведь он-то никогда не убьет, никогда не переступит. А раз так, "коль сам не решаешься,- замечает офицер,- так нет тут никакой справедливости". "Серьезный вопрос", который задает студент, этим ответом полностью исчерпан. Но можно ли так просто ответить на "дикий и фантастический вопрос" Раскольникова? Мысль Раскольникова продолжает свою напряженную, беспокойную работу, свое "хождение по мукам" - именно потому, что ему необходим истинный ответ. Точнее сказать, мысль его начинает, с посещения старухи, свой последний круг, чтобы достичь той точки, когда мысль переходит в действие, дело, ибо только дело и есть такой истинный, окончательный ответ.
Гонимый своим "фантастическим вопросом", выходит Раскольников из своей каморки.
В отвратительном грязном трактире, под пьяный шум, крик и хохот, слушает Раскольников витиеватую - шутовскую и трагическую - речь "пьяненького" Мармеладова о семнадцатилетней дочери, Сонечке, ее подвиге, ее жертве, о спасенном ею - страшной ценою - семействе. И что же? Привыкли и пользуются. "Катерину Ивановну облегчает, средства посильные доставляет", Мармеладову последние тридцать копеек вынесла - на полуштоф. "Ко всему-то подлец-человек привыкает!"
Но правда ли, что нет другого выхода, что "ко всему привыкать", примиряться и терпеть - всеобщий удел, удел всего рода человеческого? И вот яростная вспышка бунтующей раскольниковской мысли. "Ну, а коли я соврал,- воскликнул он вдруг невольно,- коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род то есть человеческий, то значит, что остальное все - предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!.."
Подлец тот, кто ко всему привыкает, все принимает, со всем смиряется. Но нет, нет, не подлец человек - "весь вообще, весь род человеческий", не подлец тот, кто бунтует, разрушает, переступает - нет никаких преград для необыкновенного, "непослушного" человека. Выйти за эти преграды, переступить их, не примириться!
(*146) И еще один удар, еще ступень к бунту - письмо матери о Дунечке, сестре, "всходящей на Голгофу", Дунечке, которая нравственную свободу свою не отдаст за комфорт, из одной личной выгоды. За что же отдается свобода? Чувствует, по письму матери, Раскольников, что ради него, ради "бесценного Роди", восхождение на Голгофу предпринимается, ему жизнь жертвуется. Маячит перед ним образ Сонечки - символ вечной жертвы: "Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!"
А где же выход? Можно ли без этих жертв, нужны ли они? "...Письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями, о том, что вопросы не разрешимы, а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или... "Или отказаться от жизни совсем! - вскричал он вдруг в исступлении,- послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе всё, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!" Послушно склонить голову перед судьбой, требующей страшных жертв, отказывающей человеку в праве на свободу, принять железную необходимость унижения, страдания, нищеты и порока, принять слепой и безжалостный "фатум", с которым, казалось бы, смешно спорить,- это, для Раскольникова,- "отказаться от жизни совсем". Но Раскольников хочет "действовать, жить и любить!".
И наконец - встреча с пьяной обесчещенной девочкой на Конногвардейском бульваре. И она - жертва каких-то неведомых стихийных законов, жестокой и непреодолимой необходимости, успокоительно оправдываемой теми, кто принял, кто примирился: "Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то... к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего!" Но ведь Сонечка, Сонечка-то уж попала в этот "процент", так легче ли ей оттого, что тут закон, необходимость, судьба? И можно ли принять такую судьбу покорно и безропотно? "А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?.." Вновь - исступленный "вскрик", вновь - предельный накал бунтующей мысли, бунт против того, что "наука" называет "законами" бытия. Пусть экономисты (*147) и статистики хладнокровно высчитывают этот вечный процент обреченных на нищету, проституцию, преступность1. Не верит им Раскольников, не может принять "процента".
Но при чем тут старуха-ростовщица? Какая же связь между бунтом Раскольникова и убийством гнусной старухи? Может быть, эта связь разъясняется услышанным Раскольниковым рассуждением студента о справедливости и вся разница между студентом и Раскольниковым лишь в том, что Раскольников хочет просто-напросто восстановить справедливость? И значит, убийство совершается с целью справедливою - взять деньги и облагодетельствовать ими нищее человечество? И преступления никакого нет, а есть элементарная арифметика: за тысячи спасенных жизней - одна ничтожная жизнь вредной старухи.
Может быть, дело еще проще: студент Раскольников голоден, "задавлен бедностью", "до того худо одет, что иной, даже и привычный человек посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу". И сразу возникает естественное: был голоден, потому и убил.
Мать надрывает себя на работе, за которую платят гроши, сестра идет в гувернантки - за те же гроши, на нравственную пытку. Хотел помочь матери, спасти сестру - потому и убил.
Конечно, может быть, и желал бы Раскольников помочь Соне старухиными деньгами, спасти детей Катерины Ивановны, как потом спасает их, определивши в пансионы и приюты, Аркадий Иванович Свидригайлов.
Конечно, и личные невзгоды и боли мучили Раскольникова: ведь недаром письмо матери было, пожалуй, окончательным толчком к бунту, недаром именно это письмо вновь и уже неотразимо поставило перед ним "ужасный, дикий и фантастический вопрос".
Но так ли - в глубине своей, в сути своей,- так ли просты нравственные побуждения Раскольникова, подвигнувшие его на убийство? Ведь на какое дело он покусился. Не романтический же он "благородный разбойник", раздающий беднякам награбленные богатства! Да и голоден он если и был, то вовсе не голод причина его мучений. Да и матери с сестрой мог бы он помочь (признается Расколь(*148)ников Соне), стоило лишь приняться за какую-нибудь работу: давать уроки, переводить - ведь работает же Разумихин. И даже комфорту мог бы достичь Раскольников, с его-то незаурядными способностями (достиг же Петр Петрович Лужин, а куда ему до Раскольникова!).
"Не то, не то!" - понимает Соня. "Совсем, совсем, совсем тут другие причины!" - с мучением, почти в бреду, подтверждает Раскольников. "Если б только я зарезал из того, что голоден был... то я бы теперь... счастлив был!"
Так в чем же тогда дело? Что нужно Раскольникову, с его страстной мятущейся мыслью, что нужно этому "мученику" и "скитальцу" Достоевского? Не буржуазного благополучия ищет Раскольников, его не купить комфортом, и это в то время, когда, как говорит Порфирий, "вся жизнь проповедуется в комфорте". И фамилия его говорит об особом избранном им пути - пути подвижничества, отречения, борьбы. "Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей,- если только веру иль бога найдет". Так говорит в своем последнем разговоре с Раскольниковым Порфирий Петрович, антипод Раскольникова, все время снижающий, как бы сознательно опошляющий его идею, противник всех раскольниковских убеждений,- говорит, когда уже видит - одолел Раскольникова. А мать, сестра, Разумихин, Соня, Полечка? Они просто любят, любят всей душой, несмотря ни на что, все прощают - за "великое сердце".
Велико обаяние личности Раскольникова, его "широкого сознания и глубокого сердца". Поразил Соню Раскольников, когда посадил он ее, опозоренную, растоптанную, изгнанную, рядом с сестрой и матерью, а потом поклонился ей - страдалице, жертве,- всему страданию человеческому поклонился. Целый новый мир неведомо и смутно сошел тогда в ее душу - целый мир, сначала непонятный Соне, но - это-то Соня сразу почувствовала - "новый", чуждый, враждебный миру безысходно "привычного" мучения, общепринятой морали.
Любят Раскольникова, ибо "есть у него эти движения", непосредственные движения чистого и глубокого сердца, и он, Раскольников, любит - мать, сестру. Соню, Полечку. И потому глубочайшее отвращение и ненависть испытывает к трагическому фарсу бытия, разыгрываемому измученны(*149)ми, искалеченными актерами, среди которых - те, кого он так глубоко любит. И ненависть эта тем сильнее, чем уязвимее душа Раскольникова, чем беспокойнее и честнее его мысль, чем строже совесть. Именно это - душевная уязвимость, беспокойная и честная мысль, неподкупная совесть - влечет к нему сердца.
Раскольников сознает и судит мир и человека - в этом величие и обаяние его действительно незаурядной личности.
Не собственная бедность, не нужда и страдания сестры и матери терзают Раскольникова, а, так сказать, нужда всеобщая, горе вселенское - и горе сестры и матери, и горе погубленной девочки, и мученичество Сонечки, и трагедия семейства Мармеладовых, беспросветная, безысходная, вечная бессмыслица, нелепость бытия, ужас и зло, царствующие в мире.
Мир страшен, принять его, примириться с ним - невозможно, противоестественно, равносильно отказу от жизни. Но Раскольников, дитя своего "смутного", трагического времени, не верит и в возможность тем или иным способом залечить социальные болезни, изменить нравственный лик человечества. "Так доселе велось и так всегда будет!" Остается одно - отделиться, стать выше мира, выше его обычаев, его морали, переступить вечные нравственные законы (не говоря уже о законах формальных, временных), вырваться из той необходимости, что владычествует в мире, освободиться от сетей, опутавших, связавших человека, оторваться от "тяжести земной". На такое "преступление" способны поистине необыкновенные люди, или, по Раскольникову, собственно люди, единственно достойные именоваться людьми. Стать выше и вне мира - это и значит стать человеком, обрести истинную, неслыханную свободу. Или послушание, или бунт "гордого человека", необыкновенной личности - третьего, по Раскольникову, не дано.
Такой бунт должен поставить Раскольникова в особые отношения с миром, ибо тогда он сможет в себе самом найти Архимедову точку опоры, чтобы перевернуть мир. И здесь мысль героя Достоевского поднимается до предельной грани, до бунта вселенского, космического. Вот оно, "новое собственное" слово Раскольникова: "Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту!" Это окончательное, последнее действие, прекращающее (*150) испокон века установленное течение жизни, коренной поворот всего бытия. Но Раскольников чувствует себя способным и на большее, он хочет взвалить себе на плечи бремя тяжести неимоверной, поистине сверхчеловеческой. На истерический вопрос Сони: "Что же делать?", после мучительного разговора о будущем, фатально предопределенном детям Катерины Ивановны ("Разве Полечка не погибнет?"), Раскольников отвечает так: "Сломать что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя!"
Но вот вопрос: способен ли ты быть настоящим человеком, право имеющим "сломать", способен ли на бунт-преступление: "...мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею?.." Поистине - "ужасный, дикий и фантастический вопрос"!
Убийство старухи - единственный, решающий, первый и последний эксперимент, сразу все разъясняющий: "Тою же дорогою идя, я уже никогда более не повторил бы убийства".
Раскольникову его эксперимент нужен именно для проверки своей способности на преступление, а не для проверки идеи, которая, как он до поры до времени глубоко убежден, неопровержима. "Казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений" - это перед убийством. Но и потом, сколько бы раз он ни возвращался к своим мыслям, сколь строго он ни судил бы свою идею, казуистика его только вытачивалась все острее и острее, делалась все изощреннее. И уже решившись выдать себя правосудию, он говорит сестре: "Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь!" И наконец на каторге, "на свободе", подвергнув свою "идею" беспощадному анализу, он не в силах от нее отказаться: идея истинна, совесть его спокойна. Сознательных, логических опровержений своей идее Раскольников не находит до конца. Ибо вполне объективные особенности современного мира обобщает Раскольников, уверенный в невозможности что-либо изменить: разделение мира на угнетенных и угнетателей, властителей и подвластных, насильников и насилуемых.
Вместе с тем - и в этом гениальность романа Достоевского - как бы параллельно с "вытачиванием казуистики" все нарастает, усиливается и наконец побеждает опровер(*151)жение раскольниковской идеи - опровержение душой и духом самого Раскольникова, нравственной силой Сони Мармеладовой. Это опровержение не логическое, не теоретическое - это опровержение жизнью.
Глубочайшая уязвленность ужасом и нелепостью мира сего родила раскольниковскую идею. Но она же - способность страдать и сострадать - и уничтожает эту идею.
Весь месяц от убийства до признания проходит для Раскольникова в непрестанном напряжении, не прекращающейся ни на секунду борьбе.
И прежде всего - это борьба с самим собою.
Борьба в душе Раскольникова начинается даже еще до преступления. Совершенно уверенный в своей идее, он вовсе не уверен в том, что сможет осуществить, "поднять" ее. И от этого глубоко несчастен. Уже в это время начинаются его. лихорадочные метания, хождения души по мытарствам.
Благодаря множеству как бы нарочно сошедшихся случайностей Раскольникову поразительно удается, так сказать, техническая сторона преступления. Материальных улик против него нет. Но тем большее значение приобретает сторона нравственная.
Без конца анализирует Раскольников результат своего жестокого эксперимента, лихорадочно оценивает свою способность переступить.
Со всей непреложностью открывается ему страшная для него истина - преступление его было бессмысленным, погубил он себя напрасно, цели не достиг: "Не переступил, на этой стороне остался", оказался человеком обыкновенным, "тварью дрожащею". "Те люди (настоящие-то властелины) вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес, и стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг",- окончательный итог, подведенный на каторге.
Но почему же он, Раскольников, не вынес, и в чем его отличие от "необыкновенных" людей?
Сам Раскольников объясняет это, с презрением и почти с ненавистью к самому себе именуя себя - "вошь эстетическая". Сам Раскольников проводит беспощадный анализ собственной несостоятельности. И оказывается, что "эстетика" помешала, целую систему оговорок построила, самооправданий бесконечных потребовала - не смог Раскольников, "вошь эстетическая", идти до конца; вошь "уж по (*152) тому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь; потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель,- ха-ха! Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру, и арифметику: из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую..." "Потому, потому я окончательно вошь,- прибавил он, скрежеща зубами,- потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью!"
Итак, с самого начала, еще до убийства, еще лишь думая о его осуществлении, которое должно было ему доказать, что "никаких преград",- поставил себе Раскольников преграды. Уж если идти до конца, то нечего обманываться и обманывать, нечего "украшать" свое преступление, "эстетизировать" его, обряжать в пышные одежды некоей великолепной цели. Уж если идти до конца, способность свою к преступлению всех преград проверять - выбор наибесполезнейшей твари дрожащей тут неуместен, да и вообще выбор неуместен. Ведь подлинный-то, настоящий властелин, "необыкновенный" человек, все границы переступающий, просто ставит батарею поперек улицы и "дует" в правых и виноватых.
А главное, Раскольников в глубине души убежден, что человек - какой бы он ни был, пусть самый ничтожный из ничтожных,- не вошь, не "тварь дрожащая", а человек. Но тогда рушится вся столь искусно построенная, казуистически выточенная теория: "все позволено", "нет никаких преград".
И еще одну преграду не смог преодолеть Раскольников. Порвать с людьми окончательно, бесповоротно хотел он, ненависть испытывал даже к сестре с матерью: "Оставьте меня, оставьте меня одного!" Убийство положило между ним и людьми черту непроходимую: "Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказалось в душе его". Как бы два отчужденных, со своими законами, мира живут рядом, непроницаемые друг для друга - мир Раскольникова и другой - внешний мир.
Отчуждение от людей, разъединение - вот необходимое условие и неизбежный результат раскольниковского (*153)преступления - бунта "необыкновенной" личности. Грандиозное кошмарное видение (в эпилоге романа) разъединенного и оттого гибнущего мира - бессмысленного скопища отчужденных человеческих единиц - символизирует тот результат, к которому может прийти человечество, вдохновленное раскольниковскими идеями.
Хочет Раскольников, не приемлющий этого мира, отделиться от него бесповоротно и навсегда, но - нравственно - не может, не выдерживает одиночества, идет к Мармеладовым, идет к Соне. Тяжко ему, убийце, что сделал несчастными мать и сестру, и в то же время тяжка ему любовь их. "О, если б я был один и никто не любил меня и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего этого!" (То есть тогда переступил бы!) Но Раскольникова любят, и он любит. Отчуждения окончательного и бесповоротного, разрыва со всеми, отказа от любви Раскольников не в силах вынести, а потому не в силах вынести и своего преступления. Поднялся вроде бы Раскольников на высоту неслыханную, обыкновенным, земным людям недоступную, и вдруг почувствовал, что дышать там нечем - воздуха нет,- а ведь "воздуху, воздуху человеку надо!" (говорит Порфирий).
Перед признанием в убийстве вновь идет Раскольников к Соне. "Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть! И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!"
И только в том, что "не вынес", видит Раскольников свое преступление.
Жестоко наказан Раскольников. Но в этом наказании его спасение. Ибо, если бы вынес, кем бы оказался Раскольников? Недаром стоит рядом с Раскольниковым Аркадий Иванович Свидригайлов. Тянет к нему Раскольникова, как бы ищет он чего-то у Свидригайлова, объяснения, откровения какого-то. Это и понятно. Свидригайлов - своеобразный "двойник" Раскольникова, оборотная сторона одной медали. "Мы одного поля ягода",- говорит он Раскольникову. Свидригайлов совершенно спокойно и хладнокровно воспринимает преступление Раскольникова. Он не видит здесь никакой трагедии. Беспокойного, тоскующего, измученного своим преступлением Раскольникова он даже, так сказать, подбадривает, успокаивает, на путь истинный наставляет. Свидригайлову удивительны трагические (*154) метания и вопросы Раскольникова, совершенно излишняя и просто глупая в его теперешнем положении "шиллеровщина". "Понимаю, какие у вас вопросы в ходу: нравственные, что ли? вопросы гражданина и человека? А вы их побоку; зачем они вам теперь-то? Хе, хе! Затем, что все еще и гражданин и человек? А коли так, так и соваться не надо было; нечего не за свое дело браться". Так и Свидригайлов еще раз, по-своему, грубо и резко выговаривает то, что, в сущности, давно уже стало ясно самому Раскольникову - "не переступил он, на этой стороне остался", а все потому, что "гражданин" и "человек".
Свидригайлов же переступил, человека и гражданина в себе задушил, все человеческое и гражданское побоку пустил. Отсюда - тот равнодушный цинизм, та обнаженная откровенность, а главное, та точность, с которыми формулирует Свидригайлов самую суть раскольниковской идеи, признавая эту идею и своей: "Тут (...) своего рода теория, то же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша". Просто и ясно.
Однако с помощью каких же критериев определим мы, хороша ли цель наша? По Свидригайлову, остается один критерий - моя личность, освобожденная от нравственных вопросов - "вопросов человека и гражданина",- никаких преград не признающая.
Своим жестоким экспериментом, своим актом безграничного своеволия, осуществлением своей идеи Раскольников хотел достичь абсолютной свободы, разорвать сковывающие "тварь дрожащую" цепи, сбросить моральные путы. Новый мир свободы должен был неминуемо засиять. Но этого не произошло. Наоборот, идея поработила Раскольникова лишила свободы действий, превратила в пешку, лишенную воли, повела его. Раскольников уже не мог выбирать. Лишь один просвет, как бы предупреждение - после сна о засеченной лошади: "Проходя чрез мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!" Но нет, не прорвался нарыв, не вырвался Раскольников из лап своей дьявольской идеи. И достаточно, казалось бы, случайности, чтобы страшный "нарыв на сердце" нарвал (*155)вновь. "Предопределение судьбы" привело его на Сенную площадь, где услышал Раскольников, что завтра в семь часов вечера старуха-ростовщица будет одна. Но ведь это и нужно его идее - пропустить этот счастливый случай равносильно было бы отказу от нее, отказу от всего. В самой идее Раскольникова заключена фатальная необходимость ее осуществления. И вот: "Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно...", "как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать".
Итак, стремление к безграничной свободе оборачивается порабощением, несвободой.
А с другой стороны, осуществить эту свою будто бы безграничную свободу Раскольников может, лишь подавив другого человека. Значит, и в этом случае свобода "необыкновенного" человека оборачивается самым обыкновенным рабством. И если Раскольников, в соответствии со своей арифметикой, подавляет "наибесполезнейшую вошь", а не человека слабого и беззащитного, то лишь потому, что сохранились еще у него "вопросы человека и гражданина", что не может он до конца идти. Его другой двойник - расчетливый буржуазный делец -Петр Петрович Лужин отбрасывает всю эту "эстетику". Он открыто проповедует эгоизм и индивидуализм, якобы на основах "науки" и "экономической правды". "Наука же говорит: возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано".
Сам Раскольников тут же перекидывает мост от этих рассуждений Петра Петровича к убийству старухи-процентщицы ("...доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать"). Лужин, конечно, возмущен таким "применением" своих теорий.
Конечно, он не зарезал бы старуху-процентщицу - это, пожалуй, не в его личных интересах. Да и вообще ему вовсе не нужно переступать существующий формальный закон для удовлетворения личного интереса - он не грабит, не режет, не убивает. Он переступает нравственный закон, закон человечности, и преспокойно выносит то, чего Рас(*156)кольников вынести не мог. Благодетельствуя Дунечке, он подавляет и унижает ее, даже не сознавая этого, и в "бессознательности" этой сила Лужина - ведь "Наполеоны" не мучаются, не раздумывают, можно или нельзя переступить, а просто переступают - через человека.
Самое безусловное подтверждение и вместе с тем окончательное разоблачение теории Раскольникова - бесчеловечное надругательство Лужина над Соней, страшная боль ничем не заслуженного жестокого оскорбления. Вот он, "настоящий властелин", хладнокровно превращающий "тварь дрожащую" в средство достижения своих, по его мнению, вполне достойных целей - "ведь все на личном интересе основано". А тут личный интерес требовал - переступить, что и было незамедлительно исполнено. Подавление слабых - вот какой стороной оборачивается теория Раскольникова. Бунт его немыслим, просто не существует без принесения в жертву раскольниковской "необыкновенной" личности, ее свободе - другой личности, другой свободы.
Высказывая Соне (после преступления, которое не вынес) свой "мрачный катехизис". Раскольников, в сущности, забывает то, что раньше было им сказано Порфирию - будто "гении", необыкновенные люди переступают ради нового, лучшего. "Необыкновенный" человек,- в исступлении и отчаянии говорит Раскольников,- это тот, кто "на большее может плюнуть", большее разрушить, "кто больше всех может посметь". Да и примеры исторические, на которые ссылается теперь Раскольников,- из области подавления, разрушения, а не созидания. Чаще всего ему вспоминается Наполеон, "настоящий властелин", который "громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте" и т. д.
Достоевского всегда мучила мысль о "Наполеонах", присвоивших себе страшное право обрекать на гибель, "тратить" миллионы людей. В 1863 году он сказал своей знакомой А. П. Сусловой поразившие ее слова: "Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: "Истребить весь город". Всегда так было на свете". Так и в "Преступлении и наказании" "эстетический" ореол, которым окружает свое преступление Раскольников, рассеивается.
(*157) Признание Раскольникова - так он думает, отправляясь донести на себя,- есть признание собственной несостоятельности, собственного ничтожества - "тварью дрожащем" оказался. Но идея, верит Раскольников, стоит нерушимо и незыблемо.
Не так думает Достоевский. Побеждает истинно необыкновенный человек Раскольников, потрясенный страданиями и слезами людскими, с самого начала "предчувствовавший в себе и в убеждениях своих глубокую ложь". Терпит крах его бесчеловечная идея.
Но значит ли все это, что, по Достоевскому, альтернатива бунту Родиона Раскольникова - бунту личности против нелепости и ужаса подавляющей или издевающейся действительности - сводится к не освещенному сознанием слепому смирению?
Очень далек был Достоевский от безусловного приятия "мира сего", и фантастический трагически-уродливый и страшный лик этого мира, в безумных гримасах кривящийся и корчащийся на страницах гениального романа, зовет вовсе не к смирению.
Не смирился Достоевский.
Но индивидуалистический бунт Раскольникова не принял, идею такого бунта низверг.
При косых лучах заходящего солнца вышел Раскольников в самом начале романа из своей убогой каморки - делать "пробу". И вот завершается его трагический путь, уложившийся, как всегда у Достоевского, в несколько катастрофических дней, насыщенных до предела битвами содержания неизмеримого, борьбой "непосильных" идей и "великих сердец".
Опять закатывается солнце, и косые лучи его освещают крестный путь Раскольникова - на перекресток, опять на Сенную, где "решилось" его преступление и где теперь, со слезами, припадает он к оскверненной этим преступлением земле.
Целая жизнь, да какая, прожита за эти дни; и все время сопутствует Раскольникову, страдает с ним и за него, живет им, проходит тот же крестный путь - Соня Мармеладова.
Соня и Раскольников - два полюса, но как всякие два полюса, они не существуют друг без друга. И как Соне открылся в Раскольникове целый новый неведомый мир, (*158) так и Раскольникову открывает Соня и новый мир, и путь к спасению.
Сделавши свою "пробу", возвращается Раскольников, подавленный и разбитый, в свою каморку. В трактире, за бутылкой пива, слышит он повесть о безграничной жертве Сонечки - от шута и безумца Мармеладова, отца.
Жертва, приносимая какому-то ненасытному и всегда голодному божеству, "вечная Сонечка, пока мир стоит", жертва, ужас которой тем бездоннее, что она бессмысленна, не нужна, ничего не меняет, не исправляет - так, как символ вечной жертвенности, понимает Соню Раскольников.
Соня погубила себя, но спасла ли она кого-нибудь? Нет, отвечает Раскольников.
"Да! - патетически заключает свою исповедь пьяненький Мармеладов,- спасла, восстановила падшего".
И вот раскольниковскому бунту "гордого человека" во имя свободы противопоставил Достоевский постоянное и активное проявление подлинной, по его мысли, свободы.
Соне глубоко чуждо представление Раскольникова о безграничной и непоправимой бессмыслице всего существующего. Она верит в некий исконный, изначальный, глубинный смысл человеческого бытия.
Раскольникову этот смысл в полной мере открылся, когда он всей душой, всем сердцем, после смерти Мармеладова, разделил горе несчастного семейства. Его охватило тогда "новое, необъятное ощущение вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни".
Когда Раскольникову нужно было принять его последнее решение, он делает это как бы против воли, его опять ведет "предопределение судьбы". "Мучительное сознание своего бессилия" перед необходимостью сказать Соне, кто убил Лизавету, поначалу "почти придавило его". Не он решил, а "все вдруг решено окончательно". И он идет на перекресток и целует землю, которую своим преступлением осквернил, его вновь посещает "цельное, новое, полное ощущение": "Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю... Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастием". Такое "предопределе(*159)ние" - особого рода. Загоревшийся в душе Раскольникова огонь - прорыв к той нравственной необходимости, что всегда живет в человеке.
Однако теперь, когда Раскольников должен, когда он не может не сознаться в преступлении, его "ведет" уже не наполеоновская идея и не фатальная необходимость ее осуществления, а другая сила, присущая "натуре" человека,- глубокое, истинно человеческое нравственное чувство.
Лишь отдельными, исступленными вспышками, "припадками" приходит к Раскольникову "ощущение полной и могучей жизни". Преступлением своим задавил он его в себе.
Всегда, не припадками, живет это ощущение в Соне, как постоянный и ровный огонь согревает оно ее тяжкую жизнь, страшнее которой не придумаешь.
Ибо высокий смысл человеческого бытия для Сони (и для Достоевского, скажем тут же) - в великой силе сочувствия человека человеку, силе сострадания, того сострадания, которого не ведают буржуа Лужины.
Сила "ненасытимого сострадания" ведет Соню по кругам фантастического ада бытия, толкает ее к таким же несчастным, как и она сама, к истерзанным и замученным.
Тут не "бесконечность собственного уничижения", как думает Раскольников, тут вовсе не утрированная идеализация Сони - женщины, доведшей самопожертвованье до такой ужасной жертвы,- как полагали некоторые современные Достоевскому критики. В нравственной стойкости и ненасытимом, сострадании - весь смысл жизни Сони, ее счастье, ее радость. Ибо не было бы рядом с ней Катерины Ивановны, Полечки, детей Капернаумовых, наконец - Раскольникова, Соне осталось бы одно - умереть. (Не раз думала она в своей странной одинокой комнате с острым углом, теряющимся в темноте, или над черными водами каналов - о самоубийстве.) И если раскольниковская идея разъединяет его с людьми и осуществлена может быть лишь при окончательном разрыве со всеми,- Сонино "ненасытимое сострадание" ведет ее к людям, к единению человеческому, к солидарности.
Раскольников страстно и беспощадно судит этот мир, с его вопиющей социальной несправедливостью, с бессмысленными страданиями и унижением, судит своим карающим личным судом, своим бунтарским разумом протестующей (*160) и ни перед чем не склоняющейся личности. Но Раскольникова его бунт неотвратимо приводит к подавлению человека.
Соня склоняется перед великим смыслом бытия, пусть не всегда доступным ее разуму, но всегда ощущаемым ею, отвергая - как заблуждение - претензию гордого раскольниковского ума на личный суд над законами мироздания: "Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?"
От моего решения не может зависеть - переступить через другого человека, сделать кого-то своим средством. От моего решения может зависеть лишь одно - переступить через себя, отдать себя людям.
В такой самоотдаче, в таком служении людям - нет никаких границ и преград для полного проявления личности. В этом убежден Достоевский.
Ни один герой Достоевского не живет вне социальной среды и не выключается из подавляющего влияния ее. Ярчайшие картины социального бытия огромного города предстают перед нами в романе Достоевского. Однако ведь только Лужины да тупые "отрицатели" Лебезятниковы абсолютизируют так называемую среду, превращают ее в некий заслон человеческому благородству, в оправдание злодейства и низости, в силу, лишающую человека нравственной свободы (а с другой стороны, когда это им выгодно, строят на той же теории среды гнусные обвинения, как это сделал Лужин против Сони). Ненавистно было Достоевскому фаталистическое истолкование учения о среде - именно потому, что оно "доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить"2. Человек должен оставаться человеком. Тот, кто не остается,- безличен.
Отдать свою личность всем, до конца, и тем самым до конца проявить ее - ведь это, как писал Достоевский, идеал, еще не достигнутый на земле. Только в братстве, "в настоящем братстве" так будет. А где оно, это настоящее братство? Искал его Достоевский страстно, искал его про(*161)блески и задатки в русском национальном характере, строил из этих задатков своих героев и мучеников "ненасытимого сострадания", своих "человеколюбцев" - Соню, князя Мышкина ("Идиот"), Алешу Карамазова ("Братья Карамазовы), верил в непреложность наступления "настоящего братства": "Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле..." ("Сон смешного человека"), "ибо что за общество, если все члены один другому враги?"3.
Гениальный сатирик Салтыков-Щедрин, так же как и Достоевский воспитанный утопическим социализмом и навсегда сохранивший глубокую и несокрушимую веру в будущую социальную гармонию и будущего прекрасного человека, верно понял характерную особенность творчества Достоевского: "Он (Достоевский) не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предведений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества"4.
Но вот вопрос, действительно "непосильный" для Достоевского,- а где же мост от нынешнего страшного и все углубляющегося человеческого разъединения к будущему "настоящему братству"?
Один из удивительнейших "фантастических" рассказов Достоевского, "Сон смешного человека", оканчивается следующим размышлением героя - "смешного человека", чудака: "...так это просто: в один бы день, в один бы час - все бы сразу устроилось! Главное, люби других как себя... Если только все захотят, то сейчас все устроится". Если все захотят - ну, а коли не хотят?!
Соня вносит свет, восстанавливает души, поддерживает падших на грани их окончательного падения. Но может ли она противостоять лужиным, восстановить человеческое в лужиных и свидригайловых? Соня отдает все - но ведь гибнет Мармеладов, умирает Катерина Иванова.
Соня спасает Раскольникова. Но ведь он сам шел навстречу этому спасению, он наказан и спасен своей собственной непотерянной человечностью, своим страданием, своей любовью.
Как же быть с "настоящими властелинами", истинными Наполеонами, тратящими миллионы невинных жертв, как быть с лужиными?
Раскольников наказан, но "наполеоны"-то остаются ненаказанными, они продолжают "тратить миллионы".
Даже в душе Сони ужасное оскорбление, расчетливо и безжалостно нанесенное ей Лужиным, вся его отвратительная игра подрывают веру в силу кротости и любви, разрушают робкие надежды - "избегнуть беды осторожностию, кротостию, покорностию перед всем и каждым. Разочарование ее было слишком тяжело. Она, конечно, с терпением и почти безропотно могла все перенести - даже это. Но в первую минуту уж слишком тяжело стало. Несмотря на свое торжество и на свое оправдание - когда прошел первый испуг и первый столбняк, когда она поняла и сообразила все ясно,- чувство беспомощности и обиды мучительно стеснило ей сердце".
Перед лицом лужиных Соня принижается, "стушевывается"; в надежде защитить себя кротостью, покорностью, робостью, делается беспомощной и растерянной. И понятно, почему так поразил Соню Раскольников, преклонившийся перед ней - маленькой, робкой, испуганной. Соня спасает Раскольникова от "своеволия", но и Раскольников "восстановляет", поднимает Соню; наполняет ее душу мужеством. "Их воскресила любовь: сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого".
Раскольников, дитя огромного мрачного города, попав в Сибирь (эпилог романа), оказывается в новом, необычном для него мире - он вырван из больной жизни Петербурга, из той искусственной почвы, которая взрастила его страшную идею. Это иной, доселе чуждый Раскольникову мир, мир народной жизни, вечно обновляющейся природы.
Весной, когда так остро и как бы заново пробуждается в человеке жизнь, когда так непосредственно, по-детски неудержимо, возвращается каждый раз вечная радость бытия,- в ясный и теплый весенний день, в краю, где "как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его",- приходит к Раскольникову возрождение, вновь и уже окончательно охватывает его "необъятное ощущение полной могучей жизни". Теперь должен начаться его новый путь - новая жизнь.
(*163) И потому, несмотря на тяжелый мрак, окутывающий нарисованную Достоевским в "Преступлении и наказании" картину человеческого бытия, мы видим просвет в этом мраке, мы верим в нравственную силу, мужество, решимость героя Достоевского найти путь и средства истинного служения людям - ведь он был и остался "человеком и гражданином".
1 Достоевский здесь спорит с буржуазными экономистами, использовавшими результаты статистических исследований для доказательств вечности и неизменности законов буржуазного бытия (См.: Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского, М.- Л., Изд-во АН СССР, 1964, с. 150-152).
2 Ф.М. Достоевский, Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 21, Л., "Наука", 1980, с. 16.
3 Ф.М. Достоевский. Письма, т. IV, M., Гослитиздат, 1959, с. 5.
4 М.Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 9, М., "Художественная литература", 1970, с. 412.
Роман “Преступление и наказание” — одно из лучших произведений Достоевского. Это роман о России, пережившей эпоху глубочайших социальных сдвигов и нравственных потрясений, эпоху “разложения”, роман о герое, вместившем в грудь свою — так, что “разорвется грудь от муки” — все страдания боли, раны времени.
Еще А. С. Пушкин раскрыл зависимость чувств, психологии и речи героев от обстоятельств жизни. Человек думает, поступает, говорит в соответствии с его воспитанием, условиями жизни, с господствую щими в них социальными и экономическими связями. В романе Достоевского перед нами встает образ “маленького человека”, Петербург с его людьми, улицами, площадями. Это город социальных контрастов. Беспорядочным представляется городской пейзаж в романе: “На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль, и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу...” Покидая шумные, грязные улицы, писатель ведет нас в дома, где живут его герои, “бедные люди”. Обычно это доходные дома, типичные для капиталистического Петербурга. Мы входим в “грязные и вонючие” дворы-колодцы, поднимаемся по темным лестницам. Вот одна из них — “узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырех этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день, оттого была страшная духота”. А комнаты? Они рисуются обычно в полумраке, “слабо освещенные косыми лучами заходящего солнца или тускло мерцающим огарком свечи ... были лишены детства”. Нечего было есть, приходилось но-сить “худенькую и разорванную всюду рубашку”, спать на полу. О детях с тоской говорит и Раскольников: “Неужели не видала ты здесь, по углам, детей, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор”. Безысходное горе “маленького человека” мы видим в романе буквально на каждой странице. Герои Достоевского попадают в такие жизненные тупики, из которых есть только один выход — смерть. “Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?” — в тоске восклицает Мармеладов. Пьяный, опустившийся, он не утратил чувства болезненной любви и жалости к своей несчастной семье. Но спасти ее он не в состоянии. Рассказывая о себе, о жене, о детях, Мармеладов употребляет высокие, торжественные слова. Этот опустившийся чиновник словно хочет, чтобы его не только жалели, но и уважали. Но не находит сострадания погибающий человек, безгранично одинокий в своем горе. Погибает Мармеладов под колесами щегольской коляски. Его жена Катерина Ивановна умирает в страшной нищете, ее предсмертный крик: “Заездили клячу!” — всему окружающему жестокому миру. Соня Мармеладова, жалея своего отца и мачеху, своих младших сестер и братишек, стала жертвой развратника. Соня отдает все, но ведь гибнет Мармеладов, умирает Катерина Ивановна, погибли бы дети, не подвернись тут “благодетель” Свидригайлов. Соня спасает Раскольникова, вносит свет, восстанавливает души, поддерживает падших на грани их окончательного падения. Она не развращена душевно, тяжело страдающая, она ищет себе утешения- в религии. Соня Мармеладова — это человек будущего, в своей полной, ничем не искаженной красоте, даже и невозможной в современном мире, — цель не непосредственных, а отдаленных исканий человечества. Под низким потолком нищенской конуры в уме холодного человека, студента Родиона Раскольникова, родилась чудовищная теория, толкнувшая его на преступление. Он упорно думает о бедах несправедливо устроенного общества. Раскольников приходит к мысли, что человечество делится на два раз ряда: на людей “обыкновенных”, составляющих большинство и вынужденных подчиняться силе, и на людей “необыкновенных”, которые навязывают большинству свою волю, не останавливаясь даже перед преступлением. Стремления Раскольни-кова глубоко человечны: он думает о том, как можно избавить людей от невыносимых страданий. Но его идея об исконном, естественном разделении людей на “тварь дрожащую” и “имеющих право” властвовать антигуманистична, она может служить лишь беззаконию и произволу. Раскольников понимает, что можно в одиночку проложить путь ко всеобщему счастью, так как убежден, что воля и разум “сильной личности”, “героя” могут осчастливить “толпу”. Сестра Раскольникова, Дуня, как и Соня, готова пожертвовать своей красотой и молодостью ради горячо любимого брата — продать себя, выйдя замуж за преуспевающего дельца Лужина, чтобы иметь возможность помогать Родиону. Но ближе познакомившись с Лужиным, она понимает, что он восхваляет перед ней эгоизм и расчетливость как принципы жизни, ведущие к карьере и выгоде. И Дуня выгоняет жениха. Она не пошла по пути Сони, ее доброта, твердость воли, гордость не сломлены крайней нуждой. Она чиста. Мать Родиона — бедная женщина. Всю жизнь она надрывает себя на работе, за которую платят гроши. Она всеми силами старается помочь своему сыну окончить университет, чтобы он всю свою жизнь не гнул спину, как это делает она. Петербург в романе — не только город “униженных и оскорбленных”, но и город людей сытых, “деловых”, владык жизни — мелких и крупных хищников, занимающихся темными делами. Это Луиза Ивановна, Алена Ивановна, Дарья Францевна и другие. Тип крупного дельца, ловкого хищника воплощен в образе Лужина. Достоевский с нескрываемой иронией и неприязнью рисует этого немолодого господина, “чопорного, осанистого, с осторожною и брезгливою физиономией”. Особое место в романе занимает Свидригайлов. Это безнравственный, циничный человек. Темный мир петербургских притонов, а затем неожиданно пришедшее богатство, власть над крепостными душами — все это развратило его. Однако в душе этого человека под тяжестью пороков еще теплится искра доброты. В отличие от Лужина и ему подобных Свидригайлов — фигура не только отталкивающая, но и трагичная. И все же, несмотря на тяжелый мрак, окутывающий нарисованную Достоевским в романе картину человеческого бытия, мы видим просвет в этом мраке, мы верим в нравственную силу, мужество, решимость героев найти путь и средства истинного служения людям — ведь они были и остаются “людьми”. И потому, в конце концов, со светлым чувством закрываем мы эту книгу — одно из высочайших творений человеческого гения.