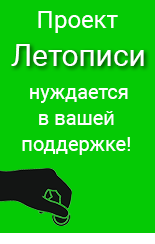Типология русской эпиграммы 18 века
Создание и научное обоснование типологии русской эпиграммы 18 века - актуальная и достаточно сложная исследовательская проблема. Ее сложность обусловливается тем, что эпиграмма представляет собой целостный жанр, в составе которого заключены определенные типо-видовые отношения. Для их выявления необходимо, в первую очередь, выдвинуть ряд базовых принципов (критериев), помогающих сформировать представление о жанровой специфике эпиграммы и ее типах в единстве содержания и художественной формы. Такими принципами (критериями), положенными в основание типологии русской эпиграммы 18 века и действующими в системе, могут стать
- а) предмет изображения;
- б) способ изображения;
- в) наличие или отсутствие сюжета;
- г) характер экспрессии.
Рассмотрим кратко особенности типологии русской эпиграммы 18 века с опорой на выдвинутые позиции.
Естественно, предлагаемая классификация является лишь одним из возможных вариантов; она может быть дополнена, расширена или создана на иной принципиальной основе.
Содержание |
Предмет изображения
Нравственный или социальный порок, физический недостаток
В основе целого ряда эпиграмм лежит осмеяние нравственного или социального порока. В 18 веке создатели эпиграмм активно реагировал на любые негативные проявления в общественном поведении, обличали широко распространенные среди людей того времени, особенно известных персон, личные пороки. Ориентируясь на первую заявленную позицию, выделяем тип эпиграммы на порок. Тем не менее, благодаря тому, что сам порок неоднороден, эпиграмма становится достаточно широким и неоднородным литературным явлением, стимулирующим различение в структуре данного ее типа определенных подтипов. С одной стороны, такая эпиграмма направлена на обличения социальных язв, с другой - в неприглядном свете в ней выступают нравственные изъяны. Иногда в поле зрения автора попадали даже физические недостатки либо известного или неизвестного широкому кругу человека, либо они высмеивались как явление без соотнесения с конкретной личностью. Последний, третий подтип, в некоторой степени обособлен. Если два первых носят на себе яркую дидактическую окраску, авторы призывают человека к исправлению, стремятся воспитывать через изображение его в комическом виде, то эпиграммы на носителей физических недостатков такой окраски не имеют.
Среди нравственных пороков авторы эпиграмм особо выделяли злость, прелюбодейство, глупость, гневливость и другие недобрые проявления человеческой сущности. Приведем в качестве примера эпиграмму В. К. Тредиаковского, которая известна под названием «На человека, который бы толь был зол, что и вся фамилия его тем же злонравием повредилась».
Зол ты, друг! Зла жена, дети злы, зла сватья;
Правда, игумен каков, такова и братья.
В центре часто бытовавших в ХУШ веке эпиграмм, обличающих социальное зло, как правило, находится должностное лицо, злоупотребляющее своим положением. Характерна для этого подтипа эпиграмма Сумарокова.
Весь город я спрошу, спрошу и весь я двор:
Когда подьячему в казну исправно с году
Сто тысячей рублев сбирается доходу,
Честной ли человек подьячий тот иль вор?
Достаточно яркий пример осмеяния физического недостатка находим в эпиграмме А. И. Дубровского «На плешивого».
Не мог я никогда сочесть волос своих,
Не мог и ты своих, затем, что нету их.
Персона
Не менее популярным для многих поэтов 18 века был и второй тип эпиграммы - на лицо, или персонифицированная. Она посвящалась реально существовавшему человеку, политическому, общественному или культурному деятелю эпохи. В основе эпиграммы этого типа лежит личное отношение автора к объектам изображения, на ее создание могли влиять мотивы литературной борьбы и сталкивающиеся в ней важнейшие творческие принципы ведущих писателей эпохи.
В качестве часто встречающихся подтипов здесь можно выделить эпиграммы на политического деятеля России того периода, а также на литератора. Политик и его деятельность, как правило, обрисованы в резко сатирической и крайне обличительной манере. В основе таких произведений лежит контраст несовместимых общественных взглядов и морально-этических представлений автора и объекта. При изображении данного человека сгущаются краски, благодаря чему «герой» предстает в неприглядном виде. Исторический деятель наделяется такими социальными и нравственными пороками, как глупость или склонность быть тираном. Много эпиграмм было написано на князя Г.А. Потемкина. Одна из них под названием «На Г.А. Потемкина» была создана А.В. Суворовым:
Одной рукой он в шахматы играет,
Другой рукою он народы покоряет,
Одной ногой разит он друга и врага,
Другою топчет он вселенны берега.
Как правило, эпиграммы на лицо опираются на реальные черты изображаемого человека. Они могут служить предметом основной насмешки, могут подвергаться гиперболизации и проявлять себя в качестве «опознавательного знака», «символа» героя. Примером тому служит анонимная эпиграмма на Павла Первого.
Похож на Фридриха, скажу пред целым миром,
- Но только не умом, а шляпой и мундиром.
Эпиграмма на литературного деятеля рождалась в условиях острой литературной дискуссии, когда ее участники направляли свои язвительные стрелы не только на предмет полемики, т. е. сугубо творческие проблемы, но и на саму личность оппонента, на его привычки, особенности поведения, факты биографии. Большое количество эпиграмм этого типа мы находим в творчестве М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, В.К. Тредиаковского. Вот как, к примеру, Ломоносов отозвался на третью женитьбу Сумарокова.
Женился Стил, старик без мочи,
На Стелле, что в пятнадцать лет,
И не дождавшись первой ночи,
Закашлявшись, оставил свет.
Тут Стелла бедная вздыхала,
Что на супружню смерть не тронута взирала.
Интересной особенностью этой эпиграммы является последняя ключевая фраза, взятая из «Гамлета» Сумарокова. Это намек не только на личную жизнь, но и на творчество оппонента.
Не всегда «эпиграмма на лицо» может быть сатирической по отношению к адресату; иногда встречается и ряд доброжелательных эпиграмм, рассуждающих о несовершенстве тех или иных отрицательных явлений жизни, приносящих, в первую очередь, страдания адресату. Такую эпиграмму Н.А. Львов посвятил И.И. Хемницеру.
Жил честно, целый век трудился
И умер гол, как гол родился.
Жизненные явления
Здесь уже мы видим приближение к другому, не менее важному типу эпиграмм, на жизненные явления. Они обличают негативные стороны эпохи и, констатируя данное положение, подкрепляют его ярким примером. Так выглядит одна из эпиграмм Сумарокова:
Танцовщик! Ты богат. Профессор! Ты убог.
Конечно, голова в почтенье меньше ног.
В этом автор усматривает одну из особенностей российского образа жизни, явную социальную несправедливость; она охватывает положение общества и государства в целом, и завершается горьким философским выводом. Укладывающаяся в две строчки эпиграмма В.В. Капниста
К свободе Русь не подросла:
Не гни холодного стекла.
несмотря на краткость, так же, как и предыдущая, заключает в себе глубокий политический и философский смысл. Автор обращается к глобальным проблемам русского общества, в том числе к крепостному праву, и дает свой пессимистический прогноз.
События культурной жизни
Следующий тип - эпиграммы на события культурной жизни русского общества. Как правило, они были вызваны созданием литературного произведения, постановкой новой пьесы. Она могла быть написана на перевод одного из памятников античной эпохи или произведения зарубежной литературы, выполненный современником автора. Они, как правило, осмеивают, порой нарочито и тенденциозно, творческие недостатки появившихся сочинений. Ярким примером такого типа является эпиграмма И.Ф. Богдановича «От зрителя комедии «НЕДОРОСЛЯ»
Почтенный Стародум,
Услышав подлый шум,
Где баба непригоже
С ногтями лезет к роже,
Ушел скорей домой.
Писатель дорогой!
Прости, я сделал то же.
В ней использован прием снижения общего пафоса драматического произведения, который обнаруживает себя на лексико-стилистическом уровне, а именно в словах сниженно-бытового характера: «баба», «рожа».
Характерной для данного типа эпиграмм является отклик В. И. Майкова на перевод «Энеиды» В.П. Петровым.
Коль сила велика российского языка
Петров лишь захотел - Вергилий стал заика.
Майков намекает на заикающуюся речь Петрова. Создается комическая оппозиция: заика Петров и великий античный поэт Вергилий. В результате этого Вергилий становится заикой. Подкрепляет комизм данной эпиграммы комическое умозаключение первой стоки.
Последний тип эпиграмм, которые характеризуются с точки зрения предмета изображения, - эпиграммы на людей, объединенных по профессиональному или конфессиональному признаку. Главным образом это эпиграммы на врачей, монахов, подьячих. Если речь идет о врачах, то эпиграмма осмеивает их непрофессионализм, беспомощность, нежелание приносить пользу людям. Интересна в этой связи краткая эпиграмма Д.И. Хвостова «Врачу»:
Что ты лечил меня, слух этот, верно, лжив,
- Я жив.
Таким образом в русской эпиграмме появляется образ врача, способного залечить до смерти, образ монаха, не следующего обетам иноческой жизни, образ чиновника-взяточника. С одной стороны этот тип приближается к типу эпиграммы на порок, но здесь в центре все-таки стоит сконструированный по профессиональному признаку собирательный образ, с характерными для него особенностями поведения.
Таким образом, рассмотрена типология русской эпиграммы с точки зрения первого, системообразующего фактора, который характеризуется предметом изображения, однако, наше представление о них будет неполным, если мы не коснемся пограничных типов. Дело в том, что в рамках данного классификационного признака существуют некоторые эпиграммы, в которых соединяются мотивы, принадлежащие произведениям иных типов. В любом случае, эпиграмма пограничного характера имеет доминирующую тему, которая подчиняет себе остальные побочные. Выделение доминирующей основы должно происходить с учетом исторических факторов. Исследователь должен быть в курсе событий, предшествующих появлению эпиграммы, т. е. тех, которые побудили автора к ее написанию.
Примером пограничного типа может служить эпиграмма Тредиаковского, адресованная своему оппоненту Сумарокову.
Кто рыж, плешив, мигун, заика и картав,
Не может быта в том никак хороший нрав.
Характерной для типа эпиграммы на лицо доминирующей теме подчинены две побочные, свойственные эпиграммам на физические недостатки (плешив, мигун, заика, картав.) и на нравственный порок (злой нрав).
Таким образом, рассмотрена типология русской эпиграммы с точки зрения первого, основного системообразующего фактора, который характеризуется предметом изображения, что помогает представить себе проблематику и идейный пафос эпиграмм 18 века.
Способ изображения
Рассмотрев содержательную сторону русской эпиграммы 18 века, обратимся к ее художественной форме. В этой связи постараемся дать классификацию, основываясь, на традициях ее написания, проявивших себя в рассматриваемую эпоху.
Существует целый ряд способов написания произведений этого жанра, а, следовательно, и донесения до читателя их основного пафоса. Выделим лишь некоторые из них, которые могут считаться основными.
Достаточно часто читателю приходится сталкиваться с эпиграммой, выступающей в форме краткого монологического высказывания, идущего от самого автора. Этот тип восходит к творчеству Ф.М. Вольтера. Примером тому может являться эпиграмма Тредиаковского на Сумарокова.
Другим не менее часто встречающимся типом является эпиграмма-рассказ, в основе которой лежит пример порочного поведения, отсутствия творческого начала и т. д. В рассказе повествуется о каком-либо событии, через которое выявляются и осмеиваются определенные пороки и его носители.
Особое внимание следует уделить эпиграмме-обращению. В этом случае автор непосредственно обращается к объекту своего осмеяния, центральному лицу своего произведения, либо к абстрактному обладателю порока.
Я знаю, что ты мне, жена, весьма верна,
Да для того, что ты, мой свет, весьма дурна.
(А. А. Ржевский)
В ряде случаев эпиграмма может быть написана в форме диалога, который может вести непосредственно автор с объектом своего осмеяния, либо равноправные персонажи. Это способствует тому, что читателю открываются сразу две точки зрения, одна заведомо ложная, достойная осуждения и осмеяния, другая, скорее всего ей противопоставленная. Прочитаем эпиграмму И.И. Дмитриева.
"Я разорился от воров!"
"Жалею о твоем я горе."
"Украли пук моих стихов!"
"Жалею я о воре."
Особым типом эпиграммы является эпиграмма-реплика. Она проявляется в том случае, когда высказывание дается от самого обладателя порока или лица, на которого она написана. Такова эпиграмма А.И. Дубровского «Прелюбодей»:
Я сделал сих детей, не я слыву отец;
Как и овечья шерсть не служит для овец.
В ряде случаев читателю приходится встречаться с автоэпиграммами, объектом которых является сам автор или же предметы его творчества. Так обращается к самому себе В.В. Капнист:
Капниста я прочел и сердцем сокрушился:
Зачем читать учился!
Очень часто в русской литературе появлялись эпиграммы-эпитафии. Это обусловливается генетической близостью этих жанров, истоки которых закладываются еще в античности, когда очень широко господствовал жанр надписи. В русской литературе 18 века эпиграммы-эпитафии, как правило, имеют своего четкого адресата, повествуют в сатирическом освещении о его поступках, «достоинствах», которые на деле оказываются пороками. Эпиграммы-эпитафии очень остры, язвительны и саркастичны. Их следует отличать от чистых эпитафий. Сатирическая прежде всего высмеивает, часто еще не умершего человека. Персонажами эпитафий могли быть известные люди, например князь Г.А. Потемкин, а также обобщенные образы, названные абстрактными именами, но являющиеся носителями определенных порочных качеств и черт. Свидетельствует об этом одна из эпиграмм-эпитафий А. П. Сумарокова:
Здесь Делий погребен, который всех ругал,
Единого творца он только не замал
И то лишь для того, что он его не знал.
Классификация по способу изображения помогает рассмотреть художественную сторону этого жанра, исследовать его композицию и отчасти образную структуру.
Наличие или отсутствие сюжета
Эпиграмма с точки зрения наличия или отсутствия сюжета. Чаще всего русская эпиграмма 18 имела бессюжетный характер. Бессюжетна эпиграмма-реплика, эпиграмма-обращение. Не имеют сюжета большинство автоэпиграмм и эпиграмм-эпитафий.
Эпиграмма-рассказ, как следует из ее названия, имеет сюжет, однако, он не сильно развит и основывается на одном или двух событиях из жизни объекта данной эпиграммы.
Характер экспрессии. По характеру экспрессии можно выделить три основные категории эпиграмм. Сразу следует заметить, что это классификация возможна с определенной долей условности, т. е. в зависимости от субъективного видения каждого конкретного текста. На смотря на это, попробуем вывести никоторые закономерности в определении типов с точки зрения данного фактора,
Эпиграммы по характеру экспрессии могут быть условно разделены на остро сатирические, горько иронические и юмористические. \
Остро сатирические эпиграммы чаще всего обращены на порок и на лицо, где в резкой, бескомпромиссной форме бичуются основные пороки, их носители, а также литературные противники.
Горько иронический оттенок носят эпиграммы, изображающие какие-либо жизненные явления, содержащие в себе не только общественный или нравственный смысл, но и глубокое философское содержание.
Юмористическими эпиграммами могут быть эпиграммы всех типов, однако, чаще всего это автоэпиграммы или эпиграммы, адресованные друзьям поэта.
Так в общих чертах выглядит типология русской эпиграммы 18 с четырех системообразующих позиций. На основании этого формулируются некоторые выводы.
Во-первых, каждая эпиграмма может быть рассмотрена с точки зрения единства всех четырех вышеуказанных факторов, что будет способствовать формированию наиболее полного о ней представления, достигнутого благодаря единству формы и содержания.
Во-вторых, необходимо учитывать наличие пограничных типов русской эпиграммы.
В-третьих, для определения типа эпиграммы следует обратить внимание на факторы, предшествующие ее появлению, чтобы не ошибиться в определении доминирующей темы.