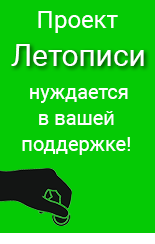Драматургическое начало в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»
Роман – жанр эпического ряда и любые сопоставления его с драматическими формами, например, с трагедией, в достаточной степени условны. На это обращал внимание еще Ф.М. Достоевский в одном из своих писем: «Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме. Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет?..» (Достоевский 1996: 494). И тем не менее роман является жанром синтетическим, вбирающим в себя возможности других жанров. В том числе роман способен содержать в себе мощное драматургическое начало, которое выражается в особой, сценической, организации пространства и расстановке персонажей, формах поведения героев, которые определяются как «совокупность движений и поз, жестов и мимики, произносимых слов с их интонациями» (Мартьянова 1999: 184).
Речь в драматическом произведении рассчитана на массовый эффект, на аудиторию, поэтому она произносится нарочито громко, звучно, в результате чего становится исполнена театральности. Театральность же собственно заключается в следующих специфических драматических условностях: театр и драма нуждаются в ситуациях, где герой высказывается перед публикой, а также в театрализующей гиперболе, в повышенной зрелищности, «неправдоподобной» насыщенности и стремительности действия (сжатость событий, вместимых в одной сцене, внезапность сюжетных поворотов, повышенная наглядность душевных движений героев) (Полякова 2002: 70).
Практически все вышеуказанные признаки драматургичности и театральности мы находим в романе «Господа Головлевы». Так, это речь персонажей, рассчитанная на массовый эффект. Приехав в дом умирающего брата, Порфирий Владимирович Головлев говорит матушке и племянницам: «–Посмотрите на меня! … как брат – я скорблю! Не раз, может быть, и всплакнул... Жаль брата, очень, даже до слез жаль... Всплакнешь, да и опомнишься: а бог-то на что! Неужто бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак – и ободришься. Так-то и всем поступать надо! И вам, маменька, и вам, племяннушки, и вам... всем! – обратился он к прислуге. – Посмотрите на меня, каким я молодцом хожу!» (Салтыков-Щедрин 1951: 71). В речи Иудушки сплошь восклицания, риторические вопросы и сравнения. При этом он сразу обратил на себя внимание словами «Посмотрите на меня!» и даже «представил из себя “молодца”, то есть выпрямился, отставил одну ногу, выпятил грудь и откинул назад голову» (Салтыков-Щедрин 1951: 71). Очевидно, что он играет на публику, столь патетически и проникновенно произнося свой небольшой монолог. И его слова произвели некоторое впечатление на слушателей, но не такое сильное, как, может быть, хотелось бы Иудушке: «Все улыбнулись, но кисло как-то, словно всякий говорил себе: ну, пошел теперь паук паутину ткать!» (Салтыков-Щедрин 1951: 71). Этот эпизод показывает и повышенную зрелищность действия – Иудушка не только говорит, но и подчеркивает свои слова наглядным примером и жестами.
«Неправдоподобную» насыщенность и стремительность действия можно увидеть в сцене проклятия. Само это событие с ужасом предчувствовалось, в какой-то мере ожидалось Иудушкой и мысленно «проигрывалось» в его голове. Однако проклятие стало внезапным и действительно неожиданным.
Беседа Порфирия Владимировича с сыном внезапно прерывается Ариной Петровной, до того момента сидевшей в стороне: «Иудушке не удалось покончить свое поучение, ибо в эту самую минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчас перестрелки об Арине Петровне словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротив того, с первого же взгляда можно было заподозрить, что в ней происходит что-то не совсем обыкновенное и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни. Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово – и не могли. И вдруг, в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась с своего кресла, протянула вперед руку и из груди ее вырвался вопль:
– Прро-кли-ннаааю!» (Салтыков-Щедрин 1951: 129)
Все случилось очень неожиданно, никто и думать не мог, что Арина Петровна вдруг решится на такой шаг. Действие приняло внезапный поворот.
Что же касается повышенной наглядности душевных движений героев, то в качестве примера можно привести состояние Иудушки во время молитвы: «лицо у него было такое спокойное, елейное, как будто он только что, в созерцании божества, отложил всякое житейское попечение и даже не понимает, по какому случаю могут тревожить его» (Салтыков-Щедрин 1951: 183), а в другой раз «даже нос у него вздрагивал от умиления» (Салтыков-Щедрин 1951: 185). После молитвы он тоже вел себя соответственно: «Лицо у него было бледно, но дышало душевным просветлением; на губах играла блаженная улыбка; глаза смотрели ласково, как бы всепрощающе; кончик носа, вследствие молитвенного угобжения, слегка покраснел. Он молча выпил свои три стакана чаю и в промежутках между глотками шевелил губами, складывал руки и смотрел на образ, как будто все еще, несмотря на вчерашний молитвенный труд, ожидал от него скорой помощи и предстательства» (Салтыков-Щедрин 1951: 190). Как актеры на сцене играют влюбленность, ненависть, зависть и тому подобное с повышенным усердием, чтобы от зрителей не ускользнуло каждое движение души, так и Иудушка играл для окружающих его людей роль глубоко религиозного, благонравного и смиренного человека.
Пространство, расстановка персонажей в некоторых эпизодах романа также имеют сценический характер. Это объясняется их схожестью с ремарками драматургических произведений: каждая вещь, каждый человек находится на своем месте, все расставлено, будто на сцене; кроме того, повествование ведется в основном в настоящем времени. Например: «Внутри господского дома царствует бесшумная тревога. Старуха барыня и две молодые девушки сидят в столовой и, не притрогиваясь к вязанью, брошенному на столе, словно застыли в ожидании. В девичьей две женщины занимаются приготовлением горчичников и примочек, и мерное звяканье ложек, подобно крику сверчка, прорезывается сквозь общее оцепенение. В коридоре осторожно двигаются девчонки на босу ногу, перебегая по лестнице из антресолей в девичью и обратно. По временам сверху раздается крик: «Что ж горчичники! заснули? а?» – и вслед за тем стрелой промчится девчонка из девичьей. Наконец слышится скрип тяжелых шагов по лестнице, и в столовую входит полковой доктор. Доктор – человек высокий, широкоплечий, с крепкими, румяными щеками, которые так и прыщут здоровьем. Голос у него звонкий, походка твердая, глаза светлые и веселые, губы полные, сочные, вид открытый. Это жуир в полном смысле слова, несмотря на свои пятьдесят лет, жуир, который и прежде не отступал и долго еще не отступит ни перед какой попойкой, ни перед каким объедением. Одет по-летнему, щеголем, в пикейный сюртучок необычайной белизны, украшенный светлыми гербовыми пуговицами. Он входит, причмокивая губами и присасывая языком» (Салтыков-Щедрин 1951: 52). Или: «В комнатах пахнет ладаном, по дому раздается протяжное пение, двери отворены настежь, желающие поклониться покойному приходят и уходят» (Салтыков-Щедрин 1951: 82); «Все принимаются за суп; некоторое время только и слышится, как лязгают ложки об тарелки да фыркают попы, дуя на горячую жидкость» (Салтыков-Щедрин 1951: 86); «Все смолкают; стаканы с чаем стоят нетронутыми. Иудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущает что-то вроде предсмертной тоски и под влиянием ее готов идти до крайних пределов. И отец и сын с какою-то неизъяснимою улыбкой смотрят друг другу в глаза. Как ни вышколил себя Порфирий Владимирыч, но близится минута, когда и он не в состоянии будет сдерживаться» (Салтыков-Щедрин 1951: 126).
Мы видим, что во всех этих описаниях каждому персонажу, каждому предмету отведено свои место – в общем пространстве «сцены» действия – и роль. В первом отрывке даже дается портрет, внешний вид и характеристика некоторых привычек доктора, которые напоминают четкое изложение деталей характеристики персонажей в афише, например, в пьесах А.Н. Островского. Автор как бы дает возможность представить читателю воочию местоположение разных частей дома: столовой, девичьей, коридора, лестницы, какого-то помещения «сверху». Мы можем увидеть доктора, его лицо, одежду, мимику и жесты; Иудушку с сыном, сидящих в молчании, но не перестающих вести внутри себя напряженную работу.
Для сравнения приведем ремарки из пьес А.П. Чехова «Чайка» и «Вишневый сад»: «Поднимается занавес; открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом» (Чехов 2002: 14); «Треплев крепко жмет ему руку и обнимает порывисто» (Чехов 2002: 20); «Площадка для крокета. В глубине направо дом с большою террасой, налево видно озеро, в котором, отражаясь, сверкает солнце. Цветники. Полдень. Жарко. Сбоку площадки, в тени старой липы, сидят на скамье Аркадина, Дорн и Маша. У Дорна на коленях раскрытая книга» (Чехов 2002: 22); «Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят; войдя, он роняет букет» (Чехов 2002: 179). В этих ремарках присутствует и настоящее время (жмет, обнимает, сверкает, сидят, входит), и описание пространства (вид на озеро, луна над горизонтом), и расстановка действующих лиц (сидят на скамье Аркадина, Дорн и Маша).
Таким образом, проанализировав приведенные выше эпизоды, можно сделать вывод, что роман «Господа Головлевы» не лишен драматургического начала. Это видно и на примере речей Иудушки, сплошь исполненных пафоса, елейности, благочестия и непременно обращенных к окружающим людям с целью произвести желаемый эффект; и на примере организации пространства и расстановки персонажей по законам сцены.
Литература:
Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 Т. – СПб.: Наука, 1996. Т.15
Мартьянова С.А. Формы поведения // Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1999.
Полякова Е.А. Поэтика драмы и эстетика театра в романе: «Идиот» и «Анна Каренина». М.: РГГУ, 2002.
Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 9 Т. – М.: Правда, 1951. Т.7
Чехов А.П. Пьесы. – М.: Дрофа: Вече, 2002.