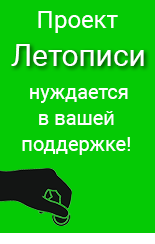Верхнечусовские городки
ТРУДНАЯ НЕФТЬ ВЕРХНЕЧУСОВСКИХ ГОРОДКОВ Нефть в Верхнечусовских Городках показалась не сразу. Сначала, в марте 1929 года, был отмечен запах нефти. Затем обнаружилась нефть в керне. 16 апреля в буровом растворе появилась, как записано в буровом журнале, «обильная пленка с пузырьками газа» — этот день и считается днем открытия пермской нефти.
Вышку поставили чуть ли не в огородах древнего села Верхнечусовские Городки, на берегу речки Рассошки. На фоне куполов старинной церкви и столетних изб она смотрелась гостьей из неведомого будущего. 20-метровую вышку называли «Бабушкой» — за то, что на ней стояло оборудование времен царя Гороха. Однако здесь, в лесной глуши, она олицетворяла собой технический прогресс. Проходившие мимо старушки мелко крестились на тусклые электрические лампочки, освещавшие, как оказалось, первые в Пермской области нефтепромыслы. «Подъезжаешь к поселку — ловишь радостный запах нефти. А еще до того, как подбирались к нефти, положишь породу, извлеченную из скважины, поближе к печке — из нее начинает сочиться нефть. А бурили тогда алмазными коронками. Алмазные зерна сами вчеканивали в тело долота. Бывало, загоняет мастер: заставит нас разбивать стекла побольше и помельче. На стекле тренировались. Положишь стекляшку в гнездо на долоте и обстукаешь кругом, чтобы не выпала. Если трещина на стекле — начинай сначала» (А. Г. Черепанов. Это было так // Уральская вышка, 1957, 3 января). 26 апреля бутыль с пермской нефтью была доставлена в Свердловск, в Уральский областной совнархоз. (В те годы Пермь являлась районным центром огромной Свердловской области.) А уже 28 апреля делегат от Пермского округа вручил VII Уральскому съезду Советов образцы горных нефтеносных пород и пообещал появление в регионе «второго Баку». Что было очень к месту — на съезде как раз озвучили директиву партии: «Решительно усилить удельный вес Урала и выдвинуть его в число важнейших индустриальных районов СССР». Тем временем на промыслах 1 мая прекратили бурение скважины. Причина — паводок. Емкостей для сбора нефти не было. Решили вернуться к испытаниям в июне. Очевидцы рассказывают, что часть нефти попала в Чусовую и деревенские мужики стали собирать этот дармовой деготь. «Мазали хомуты, телеги, сапоги, набирали нефть в бочки». (И. В. Шадрин. Липа вековая // Быль Чусовских Городков. Екатеринбург, 2000). Однако кожаные изделия, намазанные нефтью, покоробились и потрескались. Уже 7 мая 1929 года выходит постановление Президиума ВСНХ «О разведке нефти на Урале». В протоколе заседания есть такие строки: «Принять к сведению, что при бурении разведочной скважины Геологического комитета на калийные соли на р. Чусовой в 10 верстах от станции ж. д. Комарихинской установлено на глубине от 350 до 400 метров наличие пористых известняков, содержащих нефть и газы… Отметить громадное значение находки нефти в Среднем Урале, в районе расположения ряда металлургических заводов. Признать необходимым предпринять широкие поиски новых нефтяных месторождений на Урале». 8 мая вышел новый приказ ВСНХ — об организации особого бюро «Уралнефть» для руководства всеми работами по разведке нефтяных и газовых месторождений Урала. На буровую потянулись правительственные комиссии, а образцы нефти отправили на тщательный анализ. В Пермь даже прибыл зампредседателя ВСНХ И. Косиор, в прошлом руководитель треста «Грознефть». В Государственном архиве Пермской области сохранилась телеграмма от 20 мая 1929 года, направленная профессору Марко: «Еду Пермь почтовым встречать зампреда ВСНХ. Не откажитесь разрешить ночевать у Вас. Просьба приготовить образцы (неразборчиво. — С. Ф.) и остатки разгонки нефти. Преображенский». На пароходе «МОПР» делегация вместе с П. И. Преображенским приплыла в Верхнечусовские Городки. «В тот день был праздник вешнего Николы, и колокол звонил, и его звуки расстилались над водой», — пишут авторы книги «Слово о пермской нефти» (Пермь, 1999). «После швартовки судна прямо на пристани был проведен митинг. Настроение выступавших и многочисленных собравшихся отражал лозунг на большом транспаранте: «Мы разбудим спящие недра!» Осмотр членами комиссии буровой и убедительный доклад П. И. Преображенского не заняли много времени. Результаты были налицо — есть все основания утверждать наличие «большой» нефти в Прикамье». (О. А. Романовская. Первое десятилетие пермской нефти (1929–1939) // Нефть страны Советов. М., 2005). Профессор Марко, производивший первый химический анализ пермской нефти в лаборатории органической химии ПГУ, подготовил и первые научные публикации. Вместе со своим соавтором И. И. Лапкиным он впервые выделил как положительные, так и отрицательные свойства пермской нефти. «Ценные — большое содержание ароматики в нефти. Есть возможность получения как самих ароматных углеводородов, так и высокоценных антидетонирующих горючих для двигателей внутреннего сгорания, а также получения их крекингом керосиновых и солярных дистиллятов; благодаря смолистости возможно получать хороший асфальт и др. Но в то же время благодаря той же смолистости нельзя получить смазочных масел; благодаря большому количеству ароматических углеводородов невозможно получить керосин для осветительных целей. Но все же главным недостатком пермской нефти является большое содержание серы. При увеличении числа буровых, а следовательно, и необходимости заводской переработки нефти существенным станет вопрос очистки от серы бензина и керосина. Так как американские и союзные нефти содержат серы гораздо меньше, чем пермские, и практикующиеся установки не смогут удовлетворительно очистить вышеуказанные фракции, то очень возможно, что разрешить эту задачу нужно будет исключительно силами советских научных работников», — писали соавторы в 1930-е годы, когда уже прошла эйфория по поводу открытия нефти на Урале и наступили суровые будни — нефтепромысел стал осваиваться.
С пермской нефтью руководство страны связывало амбициозные планы. Ни людей, ни денег на новую стройку не жалели. Трест «Уралнефть» возглавил Константин Андреевич Румянцев, прибывший с бакинских нефтепромыслов. Член РСДРП(б) с 1916 года, он являлся кандидатом в члены ЦК РКП(б)-ВКП(б) XIII, XIV, XV и XVI съездов партии, а в 1931 году вошел в Президиум ВСНХ СССР, что тоже имело огромное значение для работы возглавляемого им предприятия. Румянцев развернул работу так, что впоследствии об этом времени напишут: «Нефтяная промышленность страны еще не знала примеров столь быстрого создания промысла на новом месте. Дело было поставлено технически грамотно, новейшие достижения, имевшиеся в нефтяных технологиях, применялись на практике» (О. Маркелова «История добычи нефти в Пермской области»). Делу помогало и название нефтепромыслов — приказом ВСНХ от 19 февраля 1930 года они стали носить имя товарища Сталина. За очень короткий срок была проложена железнодорожная ветка от станции Комарихинская до Верхнечусовских Городков. Станцию назвали просто — Нефть. Затем название стало конкретнее — Уралнефть. Местные жители шептались, что место для станции выбрано неудачно: здесь раньше было болото, в котором утонула жеребая кобыла. Плохой знак. Однако это никого не остановило, как и то, что здешние места были прокляты святым Трифоном Вятским. «Живите тут ни бедно, ни богато», — якобы сказал он на прощанье жителям, выгнавшим его взашей. «Осенью 1930 года в районе Верхнечусовских Городков имелась 51 буровая установка, из которых 42 были роторными, а промыслы обслуживались с помощью паровых машин. Трест «Уралнефть» создал собственный цех по изготовлению бурового инструмента для проходки более твердых и глубоких пород, чем в районе Каспия. Долото старой конструкции («рыбий хвост») не годилось, и потребовались американские шарашечные долота типа «Юза», «Рида» и «Симплекс», — пишет С. М. Лисичкин в книге «Очерки развития нефтедобывающей промышленности СССР» (М., 1958). Для того чтобы выйти на плановый показатель — 5 млн тонн, «Уралнефть» получила невиданные для советского государства преференции — напрямую работать с заграницей. За год, с октября 1929 года по октябрь 1930-го, в Верхнечусовских Городках численность работников, занятых на нефтепромыслах, возросла почти в шесть раз, достигнув 3 тыс. человек, из которых 730 были квалифицированными специалистами из Баку и Грозного. В древних Верхнечусовских Городках закрыли церковь и винную лавку и спешно стали строить дома и бараки для рабочих нефтепромыслов, автогараж, столовую, аптеку и даже родильный дом. У крестьян из окрестных деревень конфисковали лошадей для ремонта старого Валежинского тракта. «Понаехало полно рабочих на буровые. Из сел шли к нам красные обозы — крестьяне везли хлеб. (…) Радостно начиналась нефть. Радостно и очень тяжело. Теперь-то нефтяное дело нелегкое, а тогда и говорить нечего» (А. Г. Черепанов. Это было так // Уральская вышка, 1957, 3 января). Ольга Маркелова пишет: «Через два месяца скважина-первооткрывательница перестала фонтанировать… Дебит неотвратимо падал. Спустя некоторое время он снизился до 10 тонн в сутки. Надежды на успех таяли с каждой новой пробуренной скважиной. Срывался план добычи нефти. Урал в 1932–1933 гг. должен был поставить стране 5 млн тонн нефти. Столько же, сколько примерно давали тогда Грозненские промыслы». А давал чуть более 5 тыс. тонн — в тысячу раз меньше! В общесоюзной добыче доля пермской нефти была ничтожной: 1928–1929 гг. — 0,004%, 1929–1930 гг. — 0,03 (источник: А. А. Иголкин. Особенности развития нефтяной промышленности СССР в годы первых пятилеток (1928–1940) // Нефть страны Советов. М., 2005). Впоследствии оказалось, что скважина, заложенная Преображенским, наткнулась на нефтяную «шишку», которая и создала иллюзию большого месторождения. Год за годом геологоразведочные работы не давали результата, а дебит имеющихся скважин падал. Пессимизм рос. Высокие покровители Константина Румянцева переместили его возглавлять гораздо более перспективную в карьерном плане угольную промышленность Донбасса. Создалась драматическая ситуация, накал которой мы можем понять из докладной первого секретаря Верхнегородковского РК ВКП(б) Уралобкому партии: «С начала открытия нефти (1929 г.) на сегодняшний день (04.06.1932 г.) пройдено свыше 50 скважин с общим метражом 24 771,06 метра, из них 5 скважин оказались с нефтью промышленного значения с дебитом до 1 тыс. тонн в месяц, причем большинство из пройденных буровых дали признаки нефтеносности. (…) Я считаю, тов. Кабаков, уйти из Чусовских Городков, затратив десятки миллионов рублей на поиски, не получив твердого ответа об уральской нефти, будет в высшей степени поспешно, т. к. разведки далеко не закончены и требуются сейчас не миллионы, а значительно меньшая сумма, и как бы ни старались это обосновать отдельные работники треста, факт остается фактом, что буровые № 1, 1а и 48 в течение трех лет дают нефть, нефть чрезвычайно богатую по своим химическим качествам, имеющую промышленное значение…» (ГОПАПО: Ф. 591. Оп. 1. Д. 136. Л. 71–72. Цит. по: О. Маркелова. История добычи нефти в Пермской области). Товарищ Кабаков, тогда первый секретарь Уралобкома ВКП(б), был лично заинтересован в нефти Верхнечусовских Городков, ведь его имя носил построенный там нефтеперегонный завод, вступивший в строй в мае 1933 года. Однако нефть не подчинялась воле партии. В 1933 году нефтепромысел добыл рекордные 15 тыс. тонн нефти, после чего дела пошли на спад. «В 1934 году разведанная нефтеносная площадь в этом районе составляла всего 15 гектаров, а к 1935 году разведанные фонды для эксплуатационного бурения уже были исчерпаны. Добыча нефти начала падать, в 1936 году она снизилась до уровня 1929 года, то есть первого года эксплуатации месторождения», — пишут исследователи. Но к тому времени в Прикамье появилось еще одно месторождение, с которым связывали особые надежды, — Краснокамское.
Светлана ФЕДОТОВА Фото из архива редакции