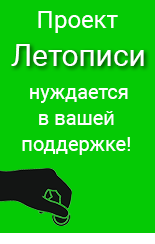Кустова, Прасковья Филипповна
Я хочу рассказать о своей прабабушке - Кустовой Прасковье Филипповне.
Как всегда, студентам не хватало последней ночи перед экзаменом. Девчонки, учившиеся на курсах медсестер в Москве, «зубрили» историю. Они не знали, что через несколько часов наступит новый отсчет времени, тяжелого, страшного времени, когда историю будут делать они сами. Ничего этого восемнадцатилетние девушки еще не знали. А завтра было 22 июня 1941 года…
Не понадобилось Прасковье Ткачевой сдавать историю, как и другие предметы. Удостоверение об окончании курсов молодые медсестры получили досрочно, на четвертый день. А на следующее утро в военкомате им выдали военные билеты. Фронтовики говорят, что на войне практически никто из них не болел «мирными» болезнями: гриппом, скажем, или бронхитом. И медикам нужны были другие знания: как лечить раны, травмы, делать ампутации.
Все эти умения Прасковья приобрела на краткосрочных курсах в институте им.Склифосовского. Научилась делать перевязки, накладывать гипс. Ее вместе с несколькими однокашницами откомандировали организовать госпиталь в одном из бывших московских институтов. А Москву в июле 1941-го уже бомбили. Девушка видела собственными глазами огромные разрушения, раненых и погибших: медсестер посылали на так называемые «летучки» - в места, куда падали бомбы вражеской авиации. Долго молоденькой сестричке снилась кровавая каша из тел погибших под бомбежкой на Белорусском вокзале.
Не раз и не два ходила она под смертью. Видно, Бог хранил ее – на волосок иногда бывала, но осталась в живых. Однажды на разбомбленной фабрике собирали раненых, Прасковья переступала через мертвых и почувствовала, как рядом пролетела пуля. Ее не задело, только свист услышала, да коса дернулась.
А вскоре в только что развернутый госпиталь стали поступать раненые с поля боя. Девчонки часто выезжали под Можайск встречать и разгружать санитарные поезда.
Прасковья работала в эвакогоспитале №46-40 в самом страшном отделении – ампутации. Через свое сердце она пропускала боль и страдания молодых ребят, оставшихся без рук, ног. Она до сих пор помнит пятнадцатилетнего паренька, которому после ранения ампутировали обе ноги, как носили его на руках: он был худенький и легкий.
Помнит усатого фронтовика постарше, он звал ее дочкой, рассказывал о своей семье, детях, ей поверял свои переживания: вот бы ногу сохранить, а иначе как я после войны работать буду. Помнит свою радость, когда медикам удалось предотвратить ампутацию. Помнит худенького Славу с Таганки, у которого на оставшейся единственной руке была надпись: « Нет в жизни счастья», помнит безногого Николая Нургалиева из Казахстана. Прасковья Филлиповна не может без слез смотреть передачу «Жди меня». Иногда она мечтает: вот было бы здоровье, разыскала бы тех раненых, кого помнит по госпиталю.
Помнит, как скрипел зубами раненый с гангреной, как вычищали червей у него из-под гипса. Как кричали мужики после операций: «Зачем вы нас спасаете, мы хотим умереть!» Помнит, как фотографировались сестрички отделения вместе с ранеными, как ребята старательно прятали ампутированные ноги, руки…
А еще покоя не давали мысли об оставшихся в оккупации в Белоруссии родных. Один брат Прасковьи погиб на фронте в 42-м, второй прошел всю войну, остался жив. Однажды ей в руки попала газета с репортажем о зверствах фашистов на оккупационной территории: «Три дня шевелилась земля» и место указано – там, где жили ее родители. Написала рапорт с просьбой отпустить съездить в Белоруссию. Ей дали командировку – провожать раненого в Витебск.
Приехала в родные места , до отчего дома бегом бежала. Мать и отец оказались живы, сестра воевала в партизанском отряде. Отец совсем старенький стал, седой. Оказывается, похоронила они дочь. Незадолго до ее приезда в лесу нашли убитую медсестру, родители и решили, что это их дочь, о которой они долго не имели известий.
Рассказали они дочери, как издевались немцы над людьми, как зверели полицаи, как живыми закапывали неглубоко в землю евреев и пускали по ним трактор. Из еды дома был хлеб из выращенного своими руками зерна. Кисель из свеклы и самогон. Ни курицы, ни поросенка, никакой живности, кроме кошек, не осталось в когда-то богатых белорусских селах.
Но главное – живы были родные. В госпиталь Ткачева вернулась успокоенная.